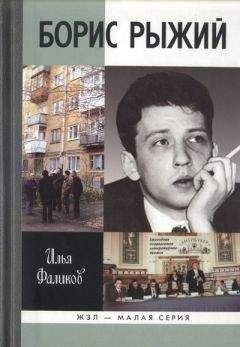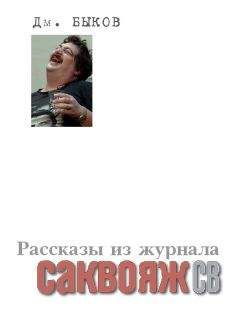Дмитрий Быков - Статьи из журнала «Русская жизнь»
И это еще одна замечательная иллюстрация на тему «За что я люблю Родину».
Не подумайте — я вовсе не отождествляю свою страну с теми несчастными — а может быть, и счастливыми — людьми, которые все это обо мне написали. Судить о России по интернетным форумам вообще некорректно — в конце концов, по анализу кала можно многое сказать о состоянии вашего желудка, но, боюсь, почти ничего — о вашей душевной организации. Однако это тоже показатель, пренебрегать им не следует. Я не о пресловутом антисемитизме, поскольку когда почитаешь иной еврейский форум — чувствуешь себя ничуть не лучше. Я о честности. Попытаюсь объяснить, что я вкладываю в это понятие.
Когда я писал биографию Окуджавы, мне часто попадались мнения о том, что перепечатывать его ранние, очень «советские» стихи не следовало бы — они откровенно слабы. Но то-то и прекрасно, что его заказные или искренние правоверные стихи откровенно слабы. Он не пытался сделать их сильнее. Скажем, вполне проходимые стихи первой советской оттепели (их было две, вторая — с 1961 года, более радикальная, а я о 1956–1958 годах), — тоже, как правило, совершенно бессодержательны, вызывающе пусты, часто лживы. Но оформлены они вполне грамотно: ассонансная рифма, метафоры какие-то громыхающие… То есть они притворяются стихами — в отличие от ранних опусов Окуджавы, который, как всякий честный транслятор вроде, допустим, Блока, гениально писал, когда что-то слышал, а когда ничего не улавливал — транслировал белый шум.
Вот так и Россия: она не притворяется хорошей.
В большинстве стран мира — особенно, конечно, на Западе, — люди придумали массу фенек и прибамбасов, делающих жизнь переносимой. Политика, отвлекающая от мыслей о смерти или тщете; бытовой комфорт, который многими почитается непременным условием производительного труда; культура всякая, которую высоко ценят и стараются беречь, — в том числе и культура пресловутого быта… Милосердие. Этикет. Отказ от грубости. Деликатность. Как сказано в фильме «Хрусталев, машину!»: «Природа подарила нам предварительные ласки»… Короче, бесчеловечная сама по себе жизнь там сдобрена человечностью — словно огромный, многослойный торт из отрубей покрыт миллиметровым слоем шоколадной глазури.
Россия — честная страна. Она от всех этих украшательств бежит.
На Западе у человека есть соблазн поверить, что он кому-нибудь нужен, что-нибудь может, что в его отсутствие, выражаясь по-бродски, в пейзаже сделается дыра… Что люди друг другу не волки, что у них есть моральные обязательства, что даже в самой беспощадной капиталистической системе, в которой люди ради денег готовы на все, существуют все-таки социальные гарантии, априорная какая-нибудь доброжелательность, верность, в конце концов… Мы же отлично знаем, что все это не так. Россия — самая природная из стран мира: жизнь здесь почти ничем не приукрашена, к условностям традиционно недоверчивы, и каждый знает, что без него прекрасно обойдутся. Никто ничего не стоит, ничье слово ни грамма не весит, и если государству будет надо, оно наплюет на любые принципы, внутренние или международные. Мы здесь с рождения знаем, что сила — право. Мы понимаем, что жизнь груба, и видим ее во всей ее первоначальной наготе, и сами стараемся быть как можно более грубыми. Грубость здесь почитается добродетелью, близостью к корням, органикой, — утонченность подозрительна. Более того: Россию надо даже любить по-особенному. Чем грубей и бездарней ты это делаешь, тем лучше. Любой, кто признается в любви к Родине человеческими словами, — кажется шпионом, штабс-капитаном Рыбниковым, который попался — помните, на чем? Он был нежен с женщиной, которую взял на ночь, и это показалось ей подозрительным.
Сейчас они скажут, что для меня Россия — женщина, которую я, жирный лоснящийся жид, взял на ночь; и будут правы. Не в том, что я так отношусь к Родине, а в том, что таково истинное лицо жизни: это лицо хамское.
Живя вне России, можно на секунду поверить в человечность. Но никакой человечности нет: мы все умрем, и мир без нас не кончится. Никто никому не нужен. Каждому дороже всего его собственная шкура. Иным это знание о жизни является в минуты депрессии, а Россия живет с ним. И я прекрасно знаю, что ни одно мое слово — а именно со словом я работаю и полагаю в этом смысл своей жизни, — ничего здесь не изменит, ничего не остановит и никого не удержит. Это тоже полезно знать, чтобы не обольщаться.
Только здесь возникает блаженное, упоительное чувство своей правоты — когда ты даешь волю худшему в себе и видишь испуг в глазах оппонента. Ты показал ему, что можешь быть хуже — и, значит, победил. Христианство считает, что ради победы нужно становиться лучше, — но у язычников другие принципы. Язычники всегда убиваются за право повторять чужие ошибки. «Им можно было идти к пропасти?! Так мы в нее побежим!»
Наша жизнь — репетиция смерти, учение, проводимое в условиях, максимально приближенных к боевым.
Россия — это огромное пространство, беспощадное к человеку. Но ведь это — лишь псевдоним жизни, которая ничем другим никогда не была.
То, что в этом пространстве выживает, действительно достойно самой высшей пробы.
И за это я тоже люблю Россию.
№ 16(33), 27 августа 2008 года
Московское зияние
Москвича как типа нет, есть пустое место, которое все ненавидят. Эту пустую оболочку каждый надувает личными представлениями о враге. Можно любить или не любить питерца, казанца, екатеринбуржца. Еще в семидесятые годы можно было так же относиться к москвичу: одним нравилось, другим не нравилось, но просматривались черты. Сегодня они стерлись на фиг. Есть жупел, который — по законам очереди — презирают, пока не поравняются с ним статусами. Но что самое интересное, сами москвичи тоже не очень любят москвичей. Больше того, они их ненавидят. Примерно с таким же чувством встречаешь своих за границей: Господи, и вы здесь! Человек переезжает в Москву — и кого же видит? Вместо других прекрасных людей — себя в миллионах экземпляров. Тьфу, пропасть. Покатайтесь в московском метро, понаблюдайте, какими глазами его пассажиры смотрят друг на друга, особенно осенью, — и многое станет вам понятней.
Помню, в 1984 году на кафедре литкритики любимого журфака был интенсивный спор — существует ли московский литературный миф? Сравнительно недавно был опубликован «Альтист Данилов». Введение в литературоведение читала у нас замечательная Елизавета Михайловна Пульхритудова — кстати, классическая старая москвичка: мягкость, деликатность, гостеприимство, юмор, без этого ужасного питерского умения отбрить и поставить на место. Так вот, она говорила о причинах, по которым петербургский миф сложился очень быстро, а московский никак не лепится: легче всего мифологизируется рукотворность. Питер умышлен, Москва хаотична и бесструктурна. В некотором смысле питерские сами придумали, какими им быть, и только потом такими стали. К числу самых укорененных мифов относится, скажем, «культурная столица»: почему культурная?! Что, в Москве музеев меньше? Театров? Архитектура бедней, да, — но сады и парки не хуже, большая часть культурной элиты живет у нас, университеты и сравнивать трудно… Нет, просто когда от них уехала власть, они себе придумали: а мы тогда будем культура! Потом, когда у них постепенно и культура несколько обмельчала, они не успокоились и выдумали себе криминальную столицу, бандитский Петербург, — и тут же привычно слепили эту мифологию: сначала Бортко, потом Светозаров, сначала «Менты», потом «Убойная сила», и все это своими руками и без достаточных оснований; сейчас, кажется, они лепят из себя футбольную столицу, и питерец Рогожкин уже снял «Игру». В общем, Питер — город, привыкший сначала проектировать, а потом строить, сначала изобрести, а потом по этим лекалам жить: типично петровское жизнетворчество. Не то Москва: она живет стихийно, роем, ульем, а осмысливает все это задним числом. Москва вообще больше живет, чем думает; с рефлексией у нее худо. И потому, говоря «питерец», мы представляем конкретное существо — худое, бледное, голодное, культурное, криминальное, теперь еще и в шарфике с надписью «Зенит». Говоря «Новосибирск», воображаем блуждающего среди тайги молодого гения в очках и ковбойке, иногда с эмблемой общества «Память», тоже начавшегося в Академгородке. У пестрой Казани, у прошашлыченного Сочи, даже у крабово-кровавого Владивостока, города на границе двух несходных культур, просматривается имидж; но Москва размыла его окончательно.
Напомним попытки его создания: больше всех для этого сделал Толстой, точно угадав эту непредумышленность, спонтанность, безалаберность московского житья. Москва живет хаотично, открыто и не по средствам, как дом Ростовых, но в нужный момент все находится. Этот город настолько неуправляем, что москвичи, утверждает Толстой, не могли даже самостоятельно поджечь его после оставления — все сгорело само, как и все само делается в этом круглом городе. В нем правит любезное Толстому нерассуждающее, роевое начало. Любопытно, кстати, что и этому титану оказалось не под силу закрепить московскую мифологию: город слишком быстро менялся, строился, перестраивался, чтобы можно было зафиксировать легенду. Москва себя не бережет, не относится к себе как к историческому памятнику — так в иных семьях не хранят старых фотографий, так йоги считают воспоминания только растравляющим душу занятием; так Москва сносит свои старые постройки, нимало над ними не сентиментальничая. Однако Наташа Ростова, отдача обозов раненым и самовозгорание города в 1812 году как-то запомнились, пусть хоть благодаря школьной программе, и остались в памяти народной. Дальше вступил Островский, Колумб Замоскворечья, и вывел на подмостки Москву купеческую, толстую, архаичную, подобную мясному пирогу. Закрепился образ Москвы грибоедовской, консервативно-косной, но образ подправленный, смягченный добрым нравом Островского: да-с, конечно-с, купечество, а все-таки с понятием. Безусловно, Москва консервативней, развалистей, медлительней Питера, но ведь и добрей! и шире! и разве потерпеть сплетни московских кумушек — такая уж непомерная плата за их же щедрое странноприимство? Короче, образ оформился; но мифа по-прежнему не было, и тут приехал киевлянин Булгаков.