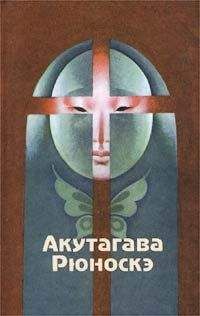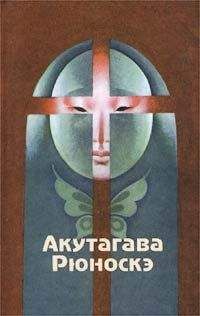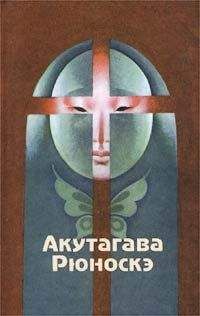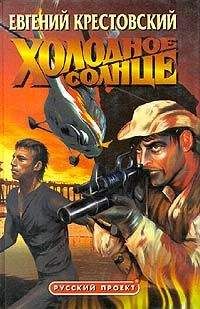Эфраим Баух - Завеса
Архетип – коллективное бессознательное – это знак.
Исход – глобальный знак иудейского этноса.
И на собственной индивидуальной судьбе я ощутил великое знаковое событие – Исход евреев из России в двадцатом веке.
Когда человек меняет место жизни, все «остраняется», по выражению Виктора Шкловского. На этом изменении, как на разломе, обнажается мир и действующие в нем лица, возникают новые связи, соединения, слог и стиль, то есть все то, что переводится с латыни одним словом – «текстум» – текст.
Открывается истина, что текст, столь вкусно называемый романом, есть открытая словесная система. И она втягивает в себя все потоки – жизни, памяти, всего прочитанного, усваиваемого через цитату, образ, иронию, трагедию и даже запах. Вспомним Пруста.
Только в этом контексте начинаешь понимать феномен структурной поэтики таких структурированных знаковых текстов, как Тора, Пророки и Летописи, возникших тысячелетия назад и покоривших весь мир. Даже по тиражу их не может догнать никакой иной текст. Речь о тираже в более, чем два с половиной миллиарда экземпляров. Речь идет о Библии.
Очнувшись на земле этой Книги, я понял сразу главное: нельзя копошиться на этой земле, обреченной Мировой Мистерии.
Тогда, во второй половине семидесятых, я говорил в своем докладе о структурной поэтике в Тель-Авивском университете, что философский или художественный текст – нечто большее, чем составляющие его части, как, положим, кристалл – нечто больше чем его первооснова – углерод. И университетские преподаватели, будучи в курсе последних новшеств мировой культуры, воспринимали это, как нечто элементарное, тривиальное, само собой разумеющееся. И это, перешептывались они, выдается, как последнее достижение мысли за «железным занавесом»? На самом же деле, объяснил я, под этим поверхностным уровнем квазикультуры в страшные дни сталинского террора, а затем – в тухлой брежневской империи формировались яркие гуманитарные идеи и выдающиеся интеллекты уровня Бахтина и Лотмана, которые, вырвавшись в свободный мир, потрясли его.
Но сейчас мы раскачиваемся на краю потока Истории, прорвавшего плотину. Смешались воды, хлынули идеи с Запада и из собственного исторического прошлого здесь, на Востоке. Но, в общем и целом, ничего уже нельзя изменить: научный и идеологический кризис захлестывает сегодня весь мир.
И все же единое духовное поле с периодическими провалами в пропасть звериного разгула масс, выносит эти провалы на своем хребте, возвращая дух на потерянные им высоты.
И все же вдруг, непонятно откуда, возникают фрагменты текста, передающие самое главное, насущное, истинное и малоприятное в данный момент жизни. Написав, прочитываешь их, не веря, что это вышло из-под твоей руки. Даже хочется вычеркнуть его, избавиться, как от навязчивой тени или душевной муки, абсолютно не понятной самой душе. Кажется, тобой кто-то манипулирует, и ты не столько сопротивляешься, сколько хочешь сохранить хорошую мину при плохой игре.
Это может быть абзац, редко – страница, совсем редко – фрагмент. Большее уже начинает распадаться, терять форму, искривляться, как стена при неудачной кладке. Возникает сомнение: к чему огород городить. В тоталитарных режимах так угасают выдающиеся умы. Тем более ценна личность, гениальность которой не позволяет ей сломиться, и в конце концов, благодаря ей, обнаруживается, что кажущаяся неудачно сложенной стена и выражает искривление пространства, то есть, не ущербность, а истинную сущность единого духовного поля. Именно это имел в виду Пастернак, говоря о множестве смертей от разрыва сердца, ибо от нас требовали возведенного в закон криводушия. Когда в земной коре накапливается напряжение пластов и блоков, происходит землетрясение, и напряжение это снимается, но ценой немалых жертв. После встряски обнаруживается то, что всегда существовало, но намеренно, со страху, не замечалось. Я имею в виду физиологические отклонения властителей, упрямо пытавшихся сломать хребет развивающемуся по законам жизни миру.
Биология и власть
Вот она – тема «Биология и власть», которой еще предстоит изучить шизофрению, лобовые инсульты, старческое слабоумие вождей, уровень мышления ефрейтора-недоучки Гитлера и сына сапожника-пьяницы Сталина, взлетевших на волне массового психоза. А они ведь возомнили себя создателями «человека будущего». Прибавить к этому наследственные признаки – психозы Ленина, приведшие его к прогрессивному параличу, психозы впадавшего в экстаз Гитлера, короткую сухую ручку и сросшиеся пальцы на ноге – Сталина. И все это – при оказавшейся в их руках неограниченной власти. Над темой паранойи вождей, передающейся массе и направляющей нацию, над феноменом безумия власти я размышлял еще в ранние семидесятые годы. Над этими размышлениями эпиграфом витал анекдот: чем отличается шизофреник от неврастеника? Шизофреник знает, что дважды два – пять и он спокоен, он верит в светлое будущее. А неврастеник знает, что дважды два четыре, что светлое будущее – блеф, но это его страшно нервирует».
«Всякое творчество, – завершил свой доклад Орман, – есть покушение на прерогативы Бога. И если ты еще жив, и в полном сознании, и можешь достаточно быстро извлекать из памяти, как занозу, имена людей и название мест. Узнаешь себя и все вокруг тотчас после пробуждения даже в самом пустынном бесполом месте, лишенном вообще предметов, лишь по силуэту холма, очертанию дальнего дерева или повороту дороги, значит, Бог к тебе по-особому милостив. И пусть над этим смеются образованные дураки, столько на твоем веку и в твоем веке наломавшие дров, приведшие к истреблению миллионов людей, умрут они с отчаянной пустотой в глазах, в конечный миг силящихся увидеть Бога».
Аудитория аплодировала. В возникшей паузе чей-то голос из зала, явно давно порывавшийся, судя по взволнованности и смущению, спросил:
– Так, все же, на какой букве Бог решил построить мир?
Аудитория оживилась. Все поворачивали головы, ища того, кто этот вопрос задал.
– Бог решил построить мир на второй букве, естественно, ивритского алфавита – букве «бет». Отсюда, кстати, и вторая буква латинского и русского алфавитов – «б». Вот, смотрите, – Орман начертал на стоящей за его спиной доске мелом букву «бет». – Видите, она очень похожа на русскую «б», только у нее нет замыкающей нижнюю часть дужки. Эта буква выражает сущность человеческой жизни: человек с трех сторон замкнут – не знает, что происходит над ним, в небе, в эмпиреях Бога, не знает, что под ним – в недрах, в преисподней, не знает, что за его спиной, до его прихода в мир. Он видит лишь то, что впереди. Так еврейские мудрецы объясняют этот выбор Богом».
Диалог через всю жизнь
Стояло московское лето 18 августа 1991 года.
Вокруг раскинулось, разомлев от зноя, Переделкино, в котором какой-то год перед отъездом в Израиль Орман пребывал несколько дней. Повороты тропинок, по которым Орман шел, пробуждали тревожную память, и он замер у дерева, слыша крики голодных птенцов. Память была подобна их разинутым клювам. Что-то тревожное было в каком-то явном несоответствии: в августе, когда птицы уже улетают, птенцы эти беспомощно кричали, призывая куда-то исчезнувшую мать.
Ночью Орман улетал домой, в Израиль, но в эти послеполуденные часы сидел в глубоком покое подмосковной дачи известного русского философа, историка и писателя, чье имя упоминалось не часто, но мгновенно вставало рядом с именами великих и честнейших умов России – Сахарова и Лихачева. Случайное их знакомство состоялось более тридцати лет назад, после его лекции в Ленинградском педагогическом институте имени Герцена, который в тот год заканчивал Орман. Вопрос, заданный студентом, вероятно, настолько удивил философа, врезавшись в его память вместе с лицом вопрошающего, что через треть века он узнал в ученом, приехавшем из Израиля, того студента. Именно он обратился в перерыве между заседаниями симпозиума к Орману и пригласил его к себе на дачу.
Деревянный домик гостеприимного философа покряхтывал подгнившими бревнами. Высокие сосны поскрипывали вершинами на верховом ветру. Внизу же воздух был недвижен. Знойная паутина висела в глубине дремлющего, как пускающий слюну старец, сада. И такая сладостная расслабленность была разлита вокруг.
Тишина, чертополох забвения, пастернаковское небытие.
Покой этот был особенным после того, как Садам Хусейн обстреливал Израиль ракетами «Скад», быть может, производимыми где-нибудь за ближайшим леском, в каком-нибудь «секретном ящике».
Хозяин, считавшийся неплохим аналитиком политической ситуации в стране, и давно замечавший трещины в ее, казалось бы, нерушимой твердокаменности, был чем-то не на шутку встревожен, не в силах самому себе объяснить почему.
Неожиданно сказал:
– По оценкам экспертов с 1924 по 1953, со дня смерти Ленина до дня смерти Сталина, погибло в результате репрессий тридцать два миллиона человек. Каждый год умирала одна треть заключенных.