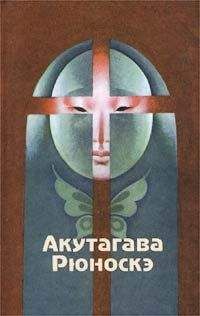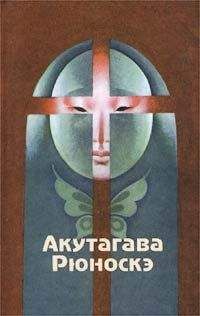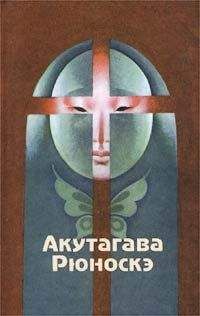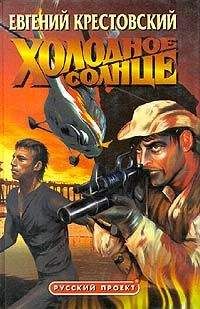Эфраим Баух - Завеса
По древесному листу ползла гусеница шелкопряда. Слово «гусеница» заставило Ормана вздрогнуть. Показалось, из глубин дремлющей зелени пахнуло горячим дыханием и лязгом других гусениц – чудовищ, выползающих из «роковых яиц» напророченного Булгаковым путча. Они были устрашающе реальны, хотя, казалось, сползают со страниц булгаковской повести «Роковые яйца», но клич «На Москву! Нашу мать!» еще не докатился до этого уголка покоя.
Орман успокаивал себя: не преувеличивай, не паникуй. Он отрешенно улыбался, как посторонний, которого все это не касалось. Оставались считанные часы до отлета домой, в Израиль.
Разговор, казалось бы, должен был касаться разрабатываемой Орманом «единой теории духовного поля», весьма заинтересовавшей старика, но с трудом скрываемое им напряжение не давало старику отвлечься, а несло по кривой в ту реальность, которая, подобно лешему, замерла за густой хвоей деревьев.
– Хотя я и наслышан, все же, не сочтите за трудность, объясните, как у вас там, в небольшой, в общем-то, стране, существует столько политических партий. Вот, у нас они тоже размножились. Но это скорее – толпы, которые неизвестно чего хотят. Учредители все норовят куда-то пролезть. Бабушка моя, не в анекдоте, а впрямую «видела Ленина», и все повторяла: «Нашли себе царя – маленький, рыжий, плешивый, картавый». Так это с детства у меня и осталось.
– Издержки демократии. Никогда неизвестно, кого она вынесет на поверхность вод, где всегда накапливается много пены. Но как объяснить, что, придя к власти, нормальные люди становятся бесчувственными, жестокими, воистину монстрами столетия, как Гитлер и Сталин?
– Ну, во-первых, взбираться вверх по трупам само по себе ненормально. Могут ли патологоанатомы не быть бесчувственными? От власти же всегда идет трупный запах. Во власть идут люди с «гибкой» нравственностью. Слишком гибкой. Ныне у нас особенно ощутимо, насколько общество разошлось с властью. И это лишь начальная реакция на семьдесят лет беспрерывно вколачивавшегося в души страха. Такой смертельной мутации страха, пожалуй, не переживало еще ни одно сообщество в мире, я имею в виду его огромность и разбросанность. Но могло ли быть иначе после упомянутых мною, тридцати двух миллионов невинно погибших в течение двадцати девяти лет? И это, дорогой мой, величайшая трагедия, когда общество расходится с властью. Тут, недалеко, в Баковке, дачи тех, кто сгубил эти миллионы. Я ведь по роду своей деятельности знал некоторых из них. Эти люди, владевшие человеческой массой, могущие уничтожить тысячи тысяч без вины виноватых, казалось, держали пространство и время в узде. От их голосов, озвучивавших волчьи пасти микрофонов, сотни миллионов впадали в массовый психоз. Но сами эти люди жили скудной жизнью, в ограничении собственного тела, в осточертевших четырех стенах, передвигались от стола в туалет, оттуда в постель, которая напоминала им последнее пристанище. Те, души которых жгла правда посильнее наркотика, и они ее говорили, были «выведены в расход» первыми. И не таилась в душах этих губителей рода человеческого хотя бы искра искренности, прожигающей время знанием, что убитые ими превратятся в светочей будущего, а о них будут вспоминать с омерзением. Что такие понятия, как совесть, доброта и человечность вечны, неуничтожимы, мстительны, ибо, как говорил Блок «зубы истории коварны и проклятия времени не избыть». Или как это в Еврейском Священном Писании – «Мне отмщение из аз воздам!»
– Ли накам вэ шилэм!
– Напишите мне это на иврите. Видите, я жизнь прожил, а все потрясает меня, когда человек свободно и размашисто пишет на незнакомом мне языке оригинала, и не простого, а воистину Священного.
– Но все же, кажется мне, ощущаются поиски духовного и душевного очищении. Вот же, все обратились к православию. Церкви полны народа.
– Дело в том, что все годы церковь преследовали, священников пускали в расход, и у нее такой же страх перед властью, как и у всех светских, а, точнее, советских людей. Она и сейчас не выступает против власти, хотя есть за что. Говорят, всякая власть от Бога, и хорошая и плохая. Самая мерзкая – наказание от Бога за грехи наши, как говорила незабвенная моя бабушка. А коль столько нагрешили, не дождаться ангела в президенты.
Вся беда России, что мы никогда, слышите, никогда не занимались самопознанием, всегда были Иванами, не помнящими родства. Все перенимали из-за границы, не умея отличить зерен от плевел, к примеру, у Гегеля и особенно у Маркса. Да у нас, по сути, никогда и не было философов в истинном значении этого слова. Все те, которыми мы гордимся – Владимир Соловьев, Бердяев, отец Сергий Булгаков – все они поэты. Платон или Кант у нас невозможен.
Лес пугал абсолютным своим безмолвием. Ни шелеста, ни шевеления хотя бы листика.
Хозяин провожал Ормана к электричке. Навстречу им ехала на коне девушка в белом платье, как некое прекрасное и беспомощное видение. Коня за уздцы вел мужчина.
И как последний образ, на выходе из трав и деревьев, стоял облитый солнцем человек с посверкивающей лезвием косой в руке. Держал он ее как алебарду. Была бы это женщина, можно было скаламбурить – «Косая с косой». Так же можно было на миг представить, что это Ангел смерти, стерегущий райский сад, и в руках его коса вместо карающего меча.
За следующим поворотом вставало кладбище, с тремя соснами над могилой Пастернака. За нею высилась колокольня церкви. Священное пространство вокруг его могилы – ведь и мертвым требуется пространство для дыхания иного мира – за эти годы заполнилось, могила к могиле, пошлыми памятниками безымянных генералов и партнелюдей, упорно, до отчаяния и беспомощности, указывая живым единственную – как по этапу – дорогу в завтра.
У церковного входа к ним приблизились два подростка, и намеренно испортили воздух и вконец испортили минуты прощания на перроне. Это можно было прочесть на их наивно-хитрых лицах. Отвратительный запах подтверждал неотвратимость этого пути в завтра.
Уже в сумерках восемнадцатого августа проехала делегация на автобусе в аэропорт Шереметьево мимо Белого дома, через Манежную площадь, непривычно пустую в такой час.
Утром, проснувшись дома, в Израиле и включив телевизор, Орман потрясенно смотрел на танки, стоящие в тех местах Москвы, по которым они проезжали считанные часы до этого. Господи, значит, гусеничный лязг в усыпляющем зное Переделкино ему не примерещился.
Девятнадцатого августа произошел путч, поднятый группой, назвавшей себя Государственным комитетом по чрезвычайному положению – ГКЧП, сместившим Горбачева.
Все еще под впечатлением увиденного и услышанного, Орман смотрел на закат. Странные строки накатывались в память:
Лишь кровь и меч. Отброшен щит.
И в мире, что по швам трещит,
Среди всего бедлама
Гуляет далай-лама.
В левом углу широко распахнутого окна стыл «куриный бог» облака, и в отверстие средневековым видением пробивалось желто-оранжевое солнце. Вправо же свинцовой залежью простиралась даль великого моря, на которой одиноким оторванным лепестком стыл парус.
Мы все двуноги, однооки,
И в стены жизни бьемся лбом,
Но вечен парус одинокий
В тумане моря голубом.
Орман записал эти неожиданно пришедшие на ум строки и вышел на прогулку, стараясь утишить гул, пробужденный в нем случившимся событием.
Рядом с этим событием море казалось дремлющим Левиафаном.
Внизу уже было темно. Успокаивала чистая россыпь огней. На западе фонари горели на фоне бирюзы, переходящей понизу в розоватую свежесть, тишину и начинающийся холод. Стаи летучих мышей вылетали в сиреневые ранние сумерки размять крылья, и от их зигзагов приходилось шарахаться.
Странно сочеталась с происшедшим поездка на следующий день в кибуц Гиват-Бреннер.
На плавящем все окружающее жару, в чистое голубое небо возносилось дерево. Огромное, развесистое. На плоском зеленом поле.
Дерево – как мгновенное погружение или мгновенное раскрытие ключа жизни.
Дерево – самодостаточное и полное свободы, люстра жизни, повисшая в пространстве. Ствол его, казалось, растворялся в мареве.
Дерево парило в воздухе и в то же время глубоко врастало в землю.
И душа ощущала врастание, подобно дереву, в пространства неба, далей и этой – своей земли.
БЕРГ
Неслышный Его голос нельзя заглушить
Берг долго откладывал встречу с Орманом, после возвращения того из России. Ему всегда было трудно, а порой невыносимо встретиться с человеком, который, не будучи брацлавским хасидом, побывал там, где ступала нога рабби Нахмана. Бергу надо было отмолить это право у Святого, благословенно имя Его.
Наконец-то в один из будних дней он предложил встретиться в синагоге Бней-Брака, для чего Орман должен был одеть талес и постоять вместе с Бергом на утренней молитве, слова которой он знал с детства. Орман с радостью согласился.