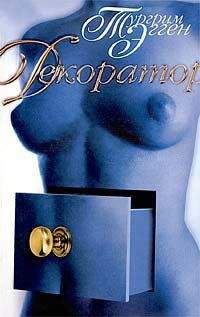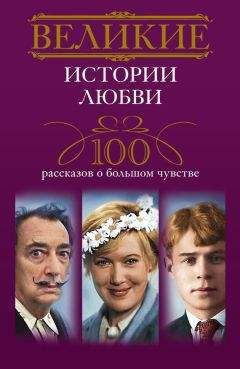Тургрим Эгген - Hermanas
Миранда аккуратно заперла за собой дверь и ушла, я слышал, как каблуки ее старых коричневых туфель из крокодиловой кожи стучат по ступенькам лестницы. Скорее медленно и неуверенно, чем быстро и целеустремленно.
Я решил проследить за ней. Самое время получить ответы, сейчас. Мои ботинки были настолько разношенными и мягкими, что я прекрасно смог бы последовать за ней так, чтобы она ничего не услышала. Пройдя несколько пролетов лестницы, я услышал, как за ней захлопнулась входная дверь.
Из водостоков уже били водопады. Середина улицы казалась озером. Вдали раздавались раскаты грома. Он приближался.
Повернув на улицу Сан-Игнасио, я увидел Миранду, идущую под зонтиком. Она шла мелкими осторожными шагами, почти вплотную прижимаясь к стенам домов в попытке лучше укрыться от дождя. На улице кроме нас с ней никого не было, поэтому я старался соблюдать дистанцию. Сколько дней я мечтал об этом: выскользнуть вслед за ней, чтобы посмотреть, чем она занимается. Интересно, что бы я увидел. Мог ли я наблюдать ее первую встречу с этим мужчиной? Мог ли я помешать развитию их отношений? Метким броском пивной бутылкой, например? Неожиданно я подумал о Луисе Риберо. Где же он жил? В районе Сентро-Гавана, если я правильно помнил.
Миранда шла дальше по улице Сан-Игнасио. Я подумал, что, возможно, она ищет машину, но в таком случае разумнее было бы пойти в другую сторону, на площадь Пласа-Франциско. Если она поймает машину, я никогда не узнаю, куда она шла.
Я промок до нитки. Волосы прилипли ко лбу, с них в глаза стекала вода, и мне было трудно смотреть. Я чувствовал, что влага обжигает кожу, но не потому, что шел кислотный дождь, а потому что по моему лицу тек пот вперемешку со слезами.
Миранда прошла четыре квартала на север по улице Сан-Игнасио, а потом свернула налево, на Калье-Обиспо, и пошла по направлению к центру. Я стал прижиматься к стенам домов, чтобы она меня не заметила, я перешел на другую сторону улицы, чтобы иметь лучший обзор. Стена дождя была такой плотной, что иногда я просто шел на звук шагов: цок-цок.
Потом Миранда остановилась, к чему я был не готов. Она перешла улицу и позвонила в дверь подъезда на Калье-Обиспо.
Я знал этот подъезд и знал, кто здесь жил. Пабло.
Не «конечно же Пабло!», а просто Пабло. В ателье, которое было еще более убогим, чем наша с Мирандой квартира, на изношенном матрасе между тюбиками с краской и пустыми бутылками. Гнездо великого соблазнителя. Как банально.
— Рауль?
Она видела меня! Миранда стояла и ждала у подъезда, струи дождя стекали с ее зонтика, и она смотрела прямо на меня.
Униженно, но покорно я подошел к ней, поливаемый ливнем.
— Теперь ты все знаешь и можешь идти домой.
У меня было множество вопросов, разумеется, но одновременно я чувствовал, что задал их уже достаточно. Поэтому я ничего не сказал.
— Возьми зонтик, — сказала она. — Когда я буду возвращаться, дождь уже кончится.
Не знаю почему, но я послушно взял зонт. Может быть, потому, что вымок до нитки. Может, я понял, что игра закончена. Дверь открылась, в парадной было темно, и я не видел, открыл ли ей Пабло или кто другой. Миранда вошла внутрь.
— Всего хорошего, — бросила она.
Я постоял немного на улице под зонтом. Мне было интересно, смогу ли я разглядеть окна чердака Пабло, если отойду до угла. Единственное, что я увидел, был свет в квартире. Какое-то время мне казалось, что я заметил тени, тени Пабло и Миранды, но стена дождя была слишком плотной, и я все видел неотчетливо.
Я простоял там довольно долго. Я плакал, и не только от жалости к самому себе, но и потому, что нечто прекрасное было уничтожено.
Когда я в конце концов пошел домой, то думал не о себе. Я думал об Ирис. О том, какая у нее будет жизнь, о том, захочет ли Миранда вообще жить с ней дальше или она просто станет для нее обузой. Пабло! — подумал я. Как смешно! Пабло с огромным самомнением. Подойдя поближе, привидение оказалось всего лишь придурком с простыней на голове. Мой лучший друг — не этими ли словами он называл меня? Конечно, это долго не продлится, но что из этого? Появятся другие. С Мирандой всегда были другие. Было ли место для Ирис в ее жизни?
Ответы на все вопросы дожидались меня дома. Не помню, запер ли я за собой дверь, может, и нет, но открыв ее, я услышал голоса в квартире.
Они сидели там, вдвоем, и с обоими я был уже знаком. Это были господа Наварро и Ибанес, Управление государственной безопасности. В такую-то погоду!
Они наверняка сидели недолго, но чувствовали себя, как говорится, как дома. Наварро держал в руках экземпляр «Instrucciones». Он читал своему напарнику вслух и не посчитал нужным закончить представление, когда сам автор возник в дверях.
— Да, но послушай-ка это, — сказал Наварро.
По историческим и культурологическим причинам большинство кубинцев прекрасно разбирается в поэзии. Наварро не был самым невзыскательным читателем. С хирургической точностью он разыскал четыре-пять самых слабых строк во всей книге и зачитал их глумливым манерным голосом. Естественно, они были из стихотворения, которое я посвятил Миранде. Разве нашу любовь недостаточно унизили сегодня вечером?
— Рауль, Рауль, Рауль… — Наварро наконец заставил себя обнаружить мое присутствие в комнате. — Вот теперь у тебя начались проблемы. Лучше бы ты послушал меня во время нашей последней встречи.
На столе лежала помятая копия «Последнего допроса…». Текстом вниз.
Ибанес пощелкивал языком, что ужасно раздражало.
— Боюсь, тебе придется проехать с нами и ответить еще на несколько вопросов, — сказал он.
22
Ocho años[70]
Вас когда-нибудь били? Я имею в виду по-настоящему? Когда я в одиннадцать лет приехал из Сьенфуэгоса в Гавану, у меня в классе появился мучитель. Такие бывают даже при социализме. На протяжении шести или семи недель он каждое утро поджидал меня у школьных ворот, чтобы побить. Он был заправским хулиганом, а я — приезжим: вот такие незамысловатые у нас сложились отношения. Когда он стал взрослым, то спился и закончил свои дни в сточной канаве. Поэтическая справедливость, как, я слышал, говорили об этом. Но тело быстро забывает. Я до сих пор помню вкус крови из носа, это единственное, что осталось в памяти. А вот что невозможно стереть из памяти, так это ожидание избиения. То, что происходит у тебя в голове, когда ты ждешь удара. Я никогда не думал, что банальные физические ощущения могут быть такими сильными.
В первую ночь, проведенную мной на Вилла-Мариста, в штаб-квартире Управления государственной безопасности, меня избили впервые во взрослой жизни. Их было четверо. Первый удар резиновой дубинкой пришелся по шее, и он был неописуемо болезненным. Мне было так больно, что я чуть не потерял сознание. Но когда бьют профессионалы, то вторым ударом они всегда приводят тебя в чувство. Они знают все об онемении, которое охватывает тело после нанесения первых побоев, знают, что надо повысить интенсивность ударов и покрывать ими разные части тела, так, чтобы боль не притуплялась.
Настоящую боль почкам, например, можно нанести многочисленными легкими ударами, а не тремя-четырьмя сильными. Если удары по почкам будут слишком сильными, то они могут лопнуть, и тогда клиент погибнет. Но к этому мучители не стремятся.
Когда клиенту предстоит предстать перед судом, его строжайше запрещено бить по лицу. Позиции защиты могут укрепиться, стоит адвокату только показать на синяк на лице или сломанный нос, и это несмотря на то, что защитники во всех отношениях некомпетентны и ненадежны. Но большая часть человеческого тела, к счастью или нет, располагается ниже шеи. Места для нанесения побоев достаточно. Твои руки скованы наручниками за спиной, и ты не можешь защитить мягкие части тела.
Для моих мучителей особенный интерес определенно представляла область живота. Удары по ребрам сыпались градом, я получил пару раз по яйцам и один раз дубинкой по бедру, да так сильно, что у меня образовался огромный синяк и я несколько дней хромал. А по животу они били снова и снова. То немногое, что находилось в моем желудке — пиво, вода и чуть-чуть риса с жареными бананами, — вышло немедленно, но они продолжали бить и пинать меня в живот до тех пор, пока я не обделался. Мочевой пузырь я уже давным-давно опорожнил в штаны.
Почему меня били, я не совсем понимал. Я не оказывал сопротивления при аресте, а послушно сел в машину. Когда Наварро и Ибанес передали меня охранникам Вилла-Мариста, я их не провоцировал и не задавал наглых вопросов. Может быть, они решили избить меня за то, что я испортил спокойную субботнюю партию в домино? А может, наказывали за преступления, в которых меня не обвиняли и за которые не осудили? Или же просто из ненависти — ненависти и презрения к человеку, который не демонстрировал абсолютную покорность? В таком случае парадокс выглядел просто гротескно: само это государство возникло благодаря непокорности.