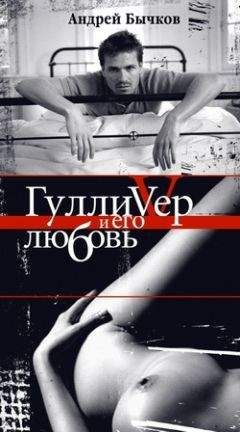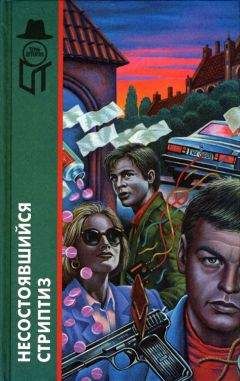Виктория Платова - Анук, mon amour...
Вряд ли Линн когда-нибудь посещала африканскую саванну.
Это и не обязательно, ведь у нее было нечто большее, чем саванна: букинистический, который теперь принадлежит мне. Я не стал ничего менять, все в нем остается так, как было при жизни Линн, даже высохшие розы я не выбросил. Если этого не сделала она, то мне и подавно не нужно делать это. Я не стал ничего менять, я сохранил букинистический в неприкосновенности – еще и потому, что почти уверен: когда-нибудь кто-нибудь принесет сюда «Ars Moriendi».
«Ars Moriendi» больше не принадлежит Ронни Бэрду, мазиле-мистификатору, носатому павлину Ронни.
Вот уже месяц, как Ронни нет в живых.
Базовые ноты смерти Ронни – ладан и серая амбра. В нотах сердца доминируют фиалки и лаванда, в головных – бергамот. Я был единственным свидетелем его самоубийства, я получил на него пригласительный билет, он и сейчас лежит в заднем кармане моих джинсов, вместе с ниткой от свитера Анук.
Пригласительный билет – не что иное, как смятая визитка Ронни Берда, которую я когда-то нашел у Анук в рюкзаке. Как она оказалась в заднем кармане джинсов, которые я практически не снимаю, – загадка, но, когда имеешь дело с Анук, перестаешь удивляться чему бы то ни было.
Ронни Бэрд прыгает с моста Аустерлиц, заключительный аккорд его падения – серая амбра; я – единственный свидетель того, как темные воды Сены смыкаются над распухшим от амбиций и собственной дутой славы мешком дерьма. Мысль о мешке дерьма приходит мне в голову сразу же – стоит только Ронни исчезнуть под водой. Трудно поверить, что целые сутки, вплоть до самоубийства, Ронни Бэрд был единственным, кто занимал мое воображение полностью, а последние несколько часов я и вовсе держался поблизости, оправдывая незатейливую формулировку Маджонга «буржуазный пропидор». Трудно поверить, но ладан и серая амбра того стоят.
Ронни всплывает ровно через три дня, еще более распухший, чем был при жизни.
Еще неделю газеты обсасывают подробности трагической гибели «короля поп-арта», до тех пор, пока ее не затмевает очередная любовная эпопея монакской принцессы Стефании и коррупционный скандал в правительстве. Бедняга Ронни оказывается всеми забыт, так же, как и два его анилиновых енота в бейсболках, не исключено, что спустя некоторое время поднимется вторая волна интереса к мазиле, и его непроданные работы выставят на аукцион.
Но пока в бухте наблюдается отлив.
Ронни забыт всеми, кроме меня. Да и я давно бы выбросил этого павлина из головы, если бы не «Ars Moriendi». Я виделся с Ронни несколько раз (по просьбе Мари-Кристин он делал эскиз флакона для «Salamanca»), но случай поговорить о книге так и не представился. Или я был недостаточно настойчив. Или Ронни, забронзовевший в своем величии, не снизошел до парфюмерного выскочки и даже не повел в его сторону забитой кокаином ноздрей.
Надежды на то, что мертвый Ронни скажет мне больше, чем сказал бы Ронни живой, тоже не оправдываются. В перечне сколько бы то ни было ценного имущества Ронни (мне пришлось дать взятку его душеприказчику, чтобы пробежаться по перечню глазами) «Ars Moriendi» не значится.
Секретарю Ронни тоже ничего не известно о книге.
Но, может быть, кто-нибудь когда-нибудь принесет «Ars Moriendi» в букинистический? Два раза книга возвращалась в магазин, так почему бы не быть третьему?.. Я верю в это так же, как и в то, что крапивники прилетят.
Но для этого мне нужен манок, пусть я и не знаю, как он выглядит.
Маджонг утверждает, что манок – это маленькая дудка, похожая на член. Или, во всяком случае, под член стилизованная.
– Почему именно под член, Маджонг? – Я вижусь с Маджонгом чаще, чем с кем бы то ни было. Вместе мы бьемся над «Minoritaire», моим первым (после двух женских) парфюмом для мужчин. Его основа – серая амбра.
– Ну как же ты не понимаешь, рыло. Член – единственная штука, которая может привлечь что угодно.
– Привлекать членом – это эксгибиционизм.
– А я думал – естественное состояние человека… Нет, ну до чего ты скучный тип, рыло! Прямо какой-то Порки Пиг63 честное слово. У тебя и приятелей-то нет, а? А если и есть – то это наверняка какой-нибудь лилипут из цирка. Или антиглобалист…
– Нет у меня никакого приятеля-лилипута… И приятеля-антиглобалиста тоже.
– Да ладно тебе обижаться! Вечно ты не по теме жопу морщишь. И физиономия у тебя даже хуже, чем у Мэрилин Монро на прозекторском столе. И о чем ты все время думаешь, Ги?..
На птичьих рынках манки не продают.
Я нахожу его совершенно случайно – в лавке Али в Бельвиле. Я не был в ней больше полугода, но Али без труда вспоминает меня.
– Новые товары, сахиб. У нас много новых товаров… Есть, что выбрать.
Ассортимент лавки не выглядит кардинально изменившимся, все те же кальяны, чеканка и специи в больших мешках, Али продает их на вес. Добавилось лишь несколько ковров и черный, инкрустированный перламутром шахматный столик.
– Говорят, вы стали большим человеком, сахиб, – в голосе Али звучит подчеркнутое и немного приторное уважение.
– Кто говорит, Али?
– Все говорят. Я сам читал о вас в журнале, забыл только, как он называется. Но я сразу вас узнал по фотографии.
Никогда бы не подумал, что Али читает французские журналы. Впрочем, и стопроцентным арабом Али больше не выглядит, в нем проглядывает что-то неуловимо европейское. Да и вся его лавчонка больше не выглядит сакрально, такую коллекцию арабских и берберских раритетов мог легко собрать какой-нибудь любитель last minute shopping в любом североафриканском аэропорту.
– У меня есть кое-что для вас. Редкие специи, прямиком из Марокко, и индийские тоже есть.
– В другой раз, Али. В другой раз.
– Хорошо, – легко соглашается Али. – Тогда, может быть, возьмете кальян? Очень старинный кальян, очень ценный, принадлежал самому Ахмеду Аль-Мансуру…
Имя Ахмед Аль Мансур ни о чем мне не говорит. Впрочем, я остался бы равнодушным к кальяну, даже если бы он принадлежал самому пророку Магомету.
– В другой раз, Али. В другой раз. Единственное, что я купил бы в этой бросовой лавчонке, – татуированные руки самого Али.
– Вам привет от Акрама, Али, – хорошо, что прежде, чем уйти, я вспомнил о песке, слетающем с таких же татуированных ладоней его брата .
– От Акрама? – Али выглядит растерянным.
– Вашего брата.
– Но откуда вы знаете?..
– Мы встретились совершенно случайно. И он очень похож на вас.
– Случайно?
– Да. Он передавал вам привет.
– Разве вы были в Марракеше? – удивлению Али нет предела. Странно, причем здесь какой-то Марракеш?
– Почему в Марракеше? Мы виделись здесь, в Париже.
– Этого не может быть, сахиб.
– Но ведь у вас есть брат Акрам, правда?
– У меня есть брат Акрам. Он делает татуировки.
– Такие, как у вас? Это он их сделал?
– Что вы, сахиб. Он делает татуировки хной, специально для туристов… Но вы не могли встретиться с ним.
– Тогда как бы я узнал о его существовании, если бы не встретился? – странное упрямство Али мне совершенно непонятно.
– Не знаю, сахиб.
– И потом… У него такой же рисунок на ладонях, как и у вас. На ладонях и на пальцах. Разве я не прав?
– Вы не могли видеться с ним здесь, в Париже. Он никогда не был в Париже. Он вообще никогда не покидал Марокко. Никогда.
Али смотрит на меня с плохо скрываемым ужасом. В мои планы вовсе не входило пугать лукавого торговца, нужно как-то выходить из положения. Оно не нравится и мне самому, но не до такой степени, чтобы признать, что наша с Акрамом встреча – бред воспаленного сознания.
– Ну хорошо. Я пошутил, Али. Я был в Марракеше и случайно встретил Акрама. Он и правда похож на вас, и он сделал мне татуировку хной. Правда, она уже сошла.
Лгать доверчивому Али еще легче, чем Линн.
– А вы большой шутник, сахиб, – смех араба слишком уж подобострастен. – Большой, большой шутник!
– А мне нравятся ваши татуировки, Али. Они самые настоящие.
– Вы можете заходить в любое время, чтобы посмотреть на них. А если еще и что-нибудь купите – Али будет просто счастлив.
Не переставая смеяться, Али протягивает мне раскрытые ладони. Неизвестные мне буквы и символы на месте, части растительного орнамента – тоже. У Акрама я видел еще и птицу, и – кажется – морскую раковину, да и сам рисунок менялся прямо у меня на глазах, Али же гораздо более консервативен. Не успеваю я подумать об этом, как арабская (или финикийская? или хеттская?) вязь закручивается спиралями и устремляется прямо к центру – синхронно на обеих руках; ее как будто всасывают в себя две воронки. На долю секунды ладони Али кажутся мне абсолютно чистыми, абсолютно девственными, – но только на долю секунды. Две маленькие сверхновые взрываются снова, узор сменился.
JOB
Восхитительная латиница, точно такую же я видел на картине в букинистическом. Все три буквы, собранные в одно библейское слово «JOB».
– Что здесь написано, Али? – я не слышу собственного голоса. – Что это может означать?