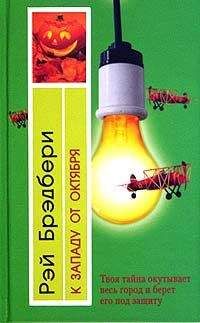Евгения Кайдалова - Ребенок
Я воспринимала события так, как если бы однажды пошла погулять в лес и наткнулась на беспомощное живое существо, умиравшее без пищи, воды и ухода. Я отнесла его в лесную сторожку, выходила и выкормила, но при этом так и осталась в лесу, за пределами большого мира, работы, друзей, развлечений. И любви.
Наука и искусство, труд и спорт, восторг от близости с любимым и счастье общаться с себе подобными – все, что было мне доступно как человеку, пришлось принести в жертву одной спасенной жизни. Жизни, которая непонятно кому и зачем нужна.
Все прошедшие месяцы я честно пыталась найти хоть сколько-нибудь радости в своем новом существовании. Поначалу ребенок был трогателен полной беспомощностью и незащищенностью. Это тельце, которое живет и дышит лишь благодаря тебе… Я вспомнила, как опускала его в ванну, когда ему была неделя от роду: раздутый вширь животик с несуразными, подергивающимися отростками рук и ног, запрокинутая, слишком тяжелая для него голова, глаза, которые ровным счетом ничего не понимают… И тут же меня захлестывало другое воспоминание: дремучая, беспросветная усталость, тупая от сонливости голова, затекшая спина, а я, покорно согнувшись, промываю каждую складочку, разжимаю даже стиснутые кулачки, потому что грязь ухитрилась забиться даже туда.
…Утром он лежит у груди, ему уже месяца три. Это милые, тихие минуты – ребенок уже улыбается и, перед тем как взять сосок, радостно раскрывает беззубый рот. Но едва я начинаю его перепеленывать после еды, как мое умиротворение рушится от одной-единственной мысли: уже закончилась очередная пачка памперсов – предстоит новый расход, а от всех моих сбережений осталось долларов триста…
…Я делаю ребенку массаж, и все то время, что я поглаживаю его и разминаю, Илья держит рот приоткрытым в полном восторге. Руки по очереди – вверх и вниз, ножки согнуть и – «велосипедик». Я мягко вожу рукой по животу по часовой стрелке – именно так лежит кишечник. Теперь «полетаем», лежа животом на моей руке, теперь, уцепившись за мои пальцы, подтянемся из положения лежа. Все так весело и славно! Но когда Илья лежит на животе, расслабленно отвернув головку в сторону, а я массирую ему спинку, то меня неизбежно подкашивает картина из прошлого: это Антон умелыми и ласковыми руками гладит и разогревает мою кожу перед тем, как проминать мышцы, а я блаженно мурлыкаю, думая, какое это счастье – быть в его руках…
Быть в его руках. Чего бы я только за это не отдала! Но ведь не смогла же я отдать за это ребенка… А теперь даже такая жертва была бы напрасной: те нити души, что некогда привязывали нас друг к другу, безнадежно спутаны в неопрятный клубок, как это бывает у плохой хозяйки в шкатулке с рукоделием. И если потянуть за одну из них, то ничто не отзовется, только клубок затянется еще туже.
Я почувствовала в горле резь и жжение и опустила взгляд в тарелку, чтобы не показывать Антону слезную пелену в глазах. Тем не менее я чувствовала, что он смотрит на меня, настойчиво и даже просительно. Чуть ли не умоляюще. Где-то на краю сознания колыхнулась мысль о том, что его сводившая меня с ума холодность могла быть элементарной реакцией на то, как озлобленно я его встретила в первый день, а ведь в этот день он впервые пришел мне на помощь. Еще давно, в горах, я поняла, что Антон все чувствует тоньше, чем кажется. Почему же, глядя на его спокойное лицо, я так уверена в покое душевном? Сегодня двадцать третье февраля, зима на исходе, так не пришла ли пора разбивать наш вселенский лед? Мы ведь можем сделать это легко, как в детстве, когда стоило лишь ударить каблуком по замерзшей лужице…
Я взяла себя в руки и вскинула голову с пересохшими слезами. Мне показалось, что Антон чуть подался вперед, но, встретившись со мной взглядом, он поспешно откинулся на спинку стула, словно его обдало ледяным порывом ветра. Светским тоном я спросила, не хочет ли он еще добавки, и он обреченно покачал головой. Я стала убирать со стола грязные тарелки, а Антон потянулся к своей недопитой чашке и начал медленно прихлебывать остывший чай.
XVIII
В качестве подарка на Восьмое марта на меня обрушился грипп. На следующий день к моменту возвращения Антона с занятий я меняла Илье памперс, не нагнувшись, как обычно, над ребенком, а обессиленно лежа рядом с ним. Весь пол был завален снятой после прогулки одеждой, которую я была не в состоянии уложить в шкаф. Грязные тряпочки, на которые Илья срыгнул, тоже валялись рядом. Дойти до ванной, чтобы подмыть ребенка, я уже не могла, и одна из тряпок благоухала еще и оттого, что ей подтерли детскую попу. Надо всем этим великолепием возвышался полученный мной вчера букет бордовых роз.
Антон увидел происходящее еще из коридора и быстрым шагом пошел в нашу комнату. Однако он замер, не входя, на уровне дверного проема, словно здесь пролегала незримая граница наших параллельных миров. Мы обменялись приветствиями: он – мрачноватым, я – полумертвым. После чего, даже не спросив, чем он может мне помочь, Антон отправился на кухню, прикрыл за собой дверь, и вскоре я услышала приглушенный разговор по телефону. Это продолжалось долго. Все то время, что длилась беседа, я надеялась на то, что она вот-вот закончится и я попрошу Антона сходить в аптеку. Но конца трепотне не предвиделось, и в какой-то момент моя расплющенная болезненной тяжестью голова всерьез выдавила мысль о том, что с Москвой пора прощаться. Я стала чужой для этого города в тот момент, когда стала чужой для Антона. И к чему было столько месяцев хранить иллюзии?
– Я звонил бабушке, – сообщил Антон, выходя из кухни, – она сейчас приедет и поможет.
После поданной Антоном таблетки, когда отступил мутящий сознание жар, я получила возможность немного поразмышлять.
У меня никогда не было бабушки, и ее роль в воспитании ребенка я представляла себе еще более смутно, чем роль отца. От одноклассников я знала, что бабушки кормят их обедом после школы, водят в секции и кружки, вместе делают уроки, вывозят летом на дачу – короче, занимаются тем же, чем занимались бы матери, не проводи они весь день на работе. Но если при слове «отец» меня всегда пронизывала неприязнь (человек, едва не испортивший маме жизнь!), то со словом «бабушка» у меня не было ровным счетом никаких ассоциаций – ни плохих, ни хороших. Нет, вру, ассоциация нашлась! Не кто иной, как бабушка, воспитывала Лермонтова, моего любимого поэта. А Пушкина воспитывала старенькая няня… Видимо, в преклонном возрасте заложен большой потенциал!
Лежа в ожидании, я попыталась себе представить, что за человек едущая ко мне на помощь Мария Георгиевна. У меня были все причины заочно уважать ее – судя по рассказам Антона, его бабушка принадлежала как раз к тому типу людей, про которых сказано: «Богатыри, не мы!» И доля ей досталась, как и положено, хуже некуда: молодость пришлась на жесточайшую в мире войну. К сорок первому году Мария Георгиевна как раз успела выучиться на медсестру и тут же попала на фронт. Для нее в отличие от многих все четыре военных года были непрекращающимся апокалипсисом в полевом лазарете. Она успела родить и потерять двоих детей (отец и дядя Антона появились на свет уже после войны), а ее муж, главный врач того же лазарета, счастливо переживший войну вместе с ней, нелепо погиб в пятидесятом году, купаясь летом в речке. Мария Георгиевна не только в одиночку вырастила сыновей (теперь-то я понимала, что это значит!), но и дала им высшее образование. На своей же личной жизни она при этом поставила крест – так и осталась незамужней, так и проработала всю жизнь медсестрой, хотя мечтала после войны выучиться на врача. Правда, к пенсии она дослужилась до звания старшей сестры в своей больнице.