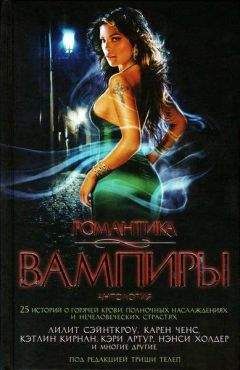РИЧАРД ФЛАНАГАН - КНИГА РЫБ ГОУЛДА
Видеть, как вся и всё стало только огнём, ветром да дымом, горьким, как грех, густым, словно грязь; следить, как жар воспламеняет кожу, опаливает волосы и там, где прошёлся его язык, становится красным-красно.
Описать возникающие в дыму силуэты людей, которые мечутся, попадая из огня прямо в полымя, ибо ничего иного не было в этом мальстрёме, этой круговерти. И несчастных солдат с каторжниками, у коих опустились руки перед лицом необоримой огненной бури, кои сложили оружие в неравной битве и все силы употребили на то, чтобы пробиться к пристани, образовав разноцветную мешанину из красных мундиров и канареечно-жёлтых бушлатов, пчелиный рой страха, движущийся к воде, дабы укрыться за молом, искать спасения от адского жара в воде, и все, кто ещё был жив, сожалели об этом.
Я вижу, как они несутся по раскалённой земле мимо повозок, бочек, недостроенных кораблей, доков, вижу, как они загораются на бегу и вспыхивают огненными шарами, дыханье вылетает изо ртов языками пламени, ещё до того как они в агонии испускают последний свой крик; они бегут прочь от огненных смерчей, поднимающихся к небу на сотни ярдов; они клянут это пламя, страшатся его, мчат прочь от него, а оно настигает их, падает с неба жёлтыми, голубыми, красными вихрями, и они летят не чуя под собой ног с одной только неотвязною мыслью: бежать!
V
Но если бы кто дерзнул хоть на миг остановиться, дабы перевести дух, ему бы следовало вспомнить о несчастном Вилли Гоулде в его камере. Ведь он-то не мог бежать. Вы, наверное, предположили, что всех узников одиночек выпустили, дабы они, по примеру остальных, попытались спастись. Но тут вы ошиблись. Наши тюремщики все укрылись за молом, отказавшись отпереть двери камер без приказа Побджоя, а Побджой — по причине, о коей я вам сейчас расскажу, — был призван в главное поселение прямо перед тем, как оно превратилось в кромешный ад, откуда, как мы узнали впоследствии, ему не суждено было возвратиться.
Оставленный жариться в камере, я глотал дым такой густоты, что он застревал в горле, отирал глаза, слезящиеся столь сильно, что, будь у меня тогда акварельные краски, я мог бы рисовать без воды, и утешался лишь размышлениями о человеке, коего фортуна обделила ещё больше, ибо он, единственный на всём острове, никуда не бежал, и не потому, что не мог, а потому, что не хотел.
Комендант сидел теперь на софе, на которой полежал какое-то время, после того как покинул дымящиеся руины камеры-кельи и нашёл убежище во дворце, одном из последних оставшихся в целости зданий. Он чувствовал, как под мокрым полотенцем, пропитанным душистою смолой гуонской сосны, отслаивается его золотая маска, и с неослабевающим удовольствием любовался величественным зрелищем своего дворца, который только недавно уступил натиску огня. Он закашлялся. Несколько струек крови красными ручейками побежали по его чёрным губам и дымящейся маске.
Те немногие, кто ещё оставался подле Коменданта, на все лады утешали его и всячески сострадали, сообщая о мнимых успехах в борьбе с пожаром и подавая чашки с холодным сассафрасовым чаем, дабы смочить губы, прополоскать горло и облегчить кашель, чем лишь усиливали осознание того, сколь далеки они от него и насколько не понимают ни его, ни истинной его натуры.
Ибо на самом деле ничто не доставляло ему большего удовольствия, с тех пор как он повстречал Мулатку. Он возликовал при виде рушащихся крыш и водопадов огня. Когда на его глазах пламя поглотило всё, ради чего он боролся, сражался и убивал, бурное веселье перешло в неимоверное спокойствие, ибо в огне сгинул невыносимый груз неодушевлённых вещей, тяжёлый якорь, надолго приковавший его к ипостаси Коменданта, в которой он более не хотел выступать, к месту — Сара-Айленду, — которое он терпел лишь потому, что более нигде на всём белом свете не мог оставаться на свободе и в безопасности, к жизни — его собственной жизни, — которая теперь казалась ему совершенно абсурдной.
Гостиная, где Комендант когда-то принимал иностранных особ; танцевальная зала, где устраивались потрясающие балы и оргии и где он за длинными зелёными занавесями японского шёлка подстерегал Мулатку, чтобы напасть и овладеть ею тут же, на месте; Великая Зала Истории Нации со множеством портретов в полный рост, которые я написал, изобразив его Благородным Мудрецом, Национальным Героем, Древним Философом, Современным Мессией, Римским Императором и похожим на великого корсиканца Освободителем на белоснежном жеребце, — всё это теперь трещало, посверкивало и полыхало в огне, и когда очередное полотно выгибалось от жара, фигура на нём как бы выходила из рамы, оживала и, покинув стену, где до сих пор влачила дни свои в заточении, возносилась подобно воздушному шару, совершала побег, теряясь в клубах дыма вместе со своими сумасшедшими замыслами и горящими синим пламенем устремлениями.
В тот же огонь бросил он и полученное восемь месяцев назад письмо Томаса Де Куинси. Писатель сей был убит горем: мисс Анна исчезла, и судьба её внушала беспокойство.
Ему было видение, навеянное опием.
«На горизонте пятнышками виднелись купола и башни великого города — чисто абстрактный образ, подсказанный, наверное, картинкою с видом Иерусалима, которая попалась мне на глаза когда-то давно, ещё в детстве. И меньше чем на расстоянии полёта стрелы, на камне, в тени пальм Иудеи, сидела женщина; я всмотрелся: то была мисс Анна! Её лицо хранило спокойствие, однако в выражении глаз сквозила необыкновенная торжественность; теперь я глядел на неё уже с неким благоговением, но вдруг её очертания стали расплывчаты, и, поведя глазами в сторону гор, я заметил, что между мною и ней струится какая-то дымка, какой-то туман; в мгновение всё испарилось, пала кромешная тьма, и не успел я опомниться, как оказался уже совсем в другом месте…»
Как бы ни маскировал свои намерения автор этих строк, Комендант, хорошо понимавший, сколь крепко сидит в писателях стремление потрафить аудитории, догадывался, что Де Куинси — это сквозило во всём его стиле — снедаем жгучим желанием услышать, как завсегдатаи какого-нибудь салона аплодируют его шедевру — тем громче, чем изящнее сей томный лондонский литератор распускает пёрышки, повествуя о том, что не смог найти её, ибо от неё остались лишь слухи — будто она мертва или, того хуже, не существовала вовсе, кроме как на страницах модного романа, и была якобы услана в колонии уставшим от неё романистом. Так не случилось ли повстречать там мисс Анну её возлюбленному брату?
Слёзы, струившиеся из глаз Коменданта, не помешали ему догадаться, что почерк Де Куинси и почерк мисс Анны одинаковы.
Сестра оказалась такой же фальшивкою, как и брат её, его страна и его народ обращаются в пепел — он отбросил надушённое полотенце и столь глубоко вдохнул воздух, насыщенный едким дымом, что его тут же стошнило. И сказку о наступлении золотого века, и крах его, повапленный, словно гроб, и развенчание его утопий, и ад, мысль о котором могла изгнать лишь полная потеря памяти, — всё это учуял он в дымном воздухе полыхающего дворца, который стал символом глупости человека, не способного принять жизнь такой, какая она есть.
Ему показалось, что он очнулся, но не от сна, а от пугающей и ужасной противоположности оного, то есть от яви, перейдя в состояние, когда понимаешь: вся жизнь, если вдуматься, есть дикий сон, в котором человека тасуют так и эдак, где его берут в оборот не только приливы и ветры, но даже знание — кое постоянно рискует оказаться утраченным — того, что человек всего-навсего дрожащий очевидец ежедневных чудес.
Он думал — и не утомляйте меня вопросами о том, откуда Вилли Гоулд знал, что думает Комендант, ибо, если до вас ещё не дошло, что сей каторжник знал куда больше, чем ему полагалось, вам уже ничто не поможет, — итак, он думал всего о нескольких банальных вещах, в голове его крутились очень простые мысли, кои я сейчас воспроизведу, хоть и не совсем по порядку.
«Не существует никакой Европы, которую стоило бы изобретать заново здесь, на острове, и никакая высшая мудрость не обитает в этом дворце, который сейчас поглощает пламя. Есть только эта вот жизнь, которую мы так хорошо знаем, со всей её грязью, гнусностью и великолепием.
Думать о прошлом столь же бессмысленно, как мечтать о будущем. Это всё равно что вызывать духов, ибо каждый может приписать им то, что ему нужно. Вся красота существует только здесь и сейчас. Нет никаких радостей, и никаких страданий, и никаких чудес, кроме тех, которые имеют место сейчас, и никакого совершенства, никакого зла и никакого добра, кроме тех, которые есть сейчас.
Я прожил бессмысленную жизнь ради одного только этого осмысленного и важного мгновения и ради осознания тех вещей, которые теперь знаю, но знание это улетучится из моей головы и из моего сердца столь же быстро, сколь там появилось».