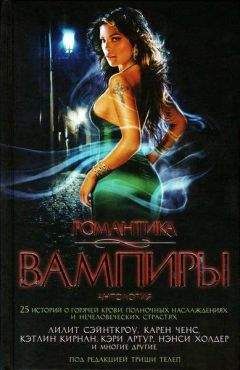РИЧАРД ФЛАНАГАН - КНИГА РЫБ ГОУЛДА
Мне следовало бы знать, почему я оказался здесь, но, по правде говоря, всё никак не удаётся вспомнить. Хоть я и описывал всё на свете, если честно, в памяти всплывают лишь два слова — «послать к…». С другой стороны, забытое мною, наверное, по-настоящему впечатляет. Должно быть, вся Александрийская библиотека не вместила бы описания тех вещей, о которых я ведать не ведаю. Например, я никак не возьму в толк, почему меня хотят повесить за два убийства, коих я никогда не совершал, а за целую кучу черепов на том далёком кострище так никто и не ответил. А ещё я не понимаю, почему убийство Пудинга и Йоргенсена считают преступлением, а истребление целого народа в лучшем случае признают сложной проблемой, подлежащей доскональному изучению, а в худшем — доказанной наукой необходимостью. Есть и ещё много такого, чего я не могу вспомнить. Например, почему люди воспринимают всерьёз писания Боудлер-Шарпа, но не обычные сказки. Почему в нашей вселенной может существовать алфавит, но в нашем алфавите вселенная существовать не может. Подобные вещи и ещё множество других остаются для меня совершеннейшими загадками. Например, почему суда плавают по поверхности воды. Почему мы представляем жизнь свою в виде лестницы, в то время как мир вращается вокруг нас. Как действует известковый раствор. Отчего мужчина трепещет, как рыба, когда мимо проходит женщина. Почему здания не разваливаются. Как так вышло, что человек может ходить, но не может летать. Отчего мне приснилось, что я превратился в лес, но, проснувшись, пропахал хайлом землю до самых сапог Муши Пуга. Какие бы скрытые намерения ни руководили ищейками Пуга, официальной задачею его команды являлось прочёсывание лесов в целях сбора сведений о перемещениях Брейди, так что, увидев меня спящим под шкурами, они даже сперва возликовали: наконец сей великий человек пойман! Я рассказал им, что действительно встретил однажды разыскиваемую ими персону, и указал направление, обратное тому, в котором ушли Салли Дешёвка и дети.
— Ты что, думал, Брейди тебя спасёт? — рассмеялся, пнув меня в лицо, Муша Пуг.
— Разумеется, — ответил я, ибо догадывался, что именно такого ответа он ждёт, хотя и знал теперь, насколько тогда ошибался.
Окажись перед ним всё, какие только есть на свете, книги о страданиях сего мира, Мэтт Брейди, кем бы он ни являлся, и то не сумел бы нас спасти. Ничто не спасло бы нас. Ни Докторова Наука. Ни Комендантова Культура. Ни сам Господь Бог, который бесконечен во времени. Не могли бы спасти себя и мы сами. В нашем прошлом не находилось утешения и надежды. Не было их и в будущем. Даже в идее загробного воздаяния. Существовали только сапоги Муши Пуга, один из которых нанёс удар по моей щеке, а потом скользнул по рту, после чего я поцеловал его. Поцеловал, потому что, кроме этих сапог, не осталось в мире ничего, что я смог бы полюбить.
II
За крошечным окошком, на решётке коего я висел, открывался вид, показавшийся мне сразу и чудесным, и поучительным: на молу сушила сети свои рыбацкая артель, а рядом со сколоченной из грубых досок пристанью в назидание нашим падшим душам была поставлена виселица — она как бы присматривала за нами с высоты, дабы мы ни на минуту не забывали о воздаянии за грехи, пока не всё ещё потеряно. У её подножия при отливе обычно взгляду открывались отбелённые солнцем и обкатанные волнами черепа и кости солдат лейтенанта Летборга — прибой то и дело выбрасывал их на прибрежный песок. После поимки меня поместили в новую камеру — камеру смертников, — дабы я ждал неминуемого наказания, которое должно было последовать на восьмой день, то есть через неделю.
Новый мой дом обладал своими достоинствами. Его не затопляло каждый день приливом, и потолки здесь выглядели прочными. То была одна из трёх смежных камер, несколько больших, чем моя предыдущая, и находившихся на противоположной стороне острова, — и я мог бы почти наслаждаться таким, незнамо от кого доставшимся наследством, когда бы не Побджой, который и тут взял за правило то и дело нарушать моё уединение.
Я попробовал ещё повисеть на манер Христа, но меня не настолько уж и увлекали собственные страдания, особенно по сравнению с муками всего мира, о которых так любил когда-то поговорить старый священник. Исхудавшие руки не могли долго удерживать даже мой ничтожный вес, и я упал во тьму камеры, меж тем как Побджой, по привычке сутулясь, будто он стремился снизойти до чего-то весьма невысокого, громогласно требовал возвращения масляных красок. До сего момента меня не оставляла надежда, что корыстолюбие Побджоя, стремящегося постоянно пополнять запас поддельных Констеблов, стакнется с моим желанием выжить. Вышло же совсем наоборот: он спокойно заявил, что моя надвигающаяся смерть его более ничуть не волнует.
— Я подозреваю, — проговорил он, решительно вторгаясь в мою камеру и жадно хватая набор красок, а заодно и новоиспечённого Констебла, и тут же поправился: — Нет, я знаю, я даже более чем уверен, что могу точно сказать, каким образом ты сбежал.
Я окидываю взглядом его веснушчатое, круглое, как луна, лицо, бельмо на его глазу, которое, верно, и объясняет, что он видит всё в кривом свете. Нижняя губа у него сильно выдаётся вперёд, выступающий красный подбородок покрыт давно не бритой щетиной; при взгляде на него невольно приходит на память большая уродливая морда рыбы-солнечника. Не знаю почему, но я никогда не брался рисовать солнечников. Это слишком сложно.
Мне следовало сразу догадаться по той небрежной манере, с какой он в последнее время носит свой красный мундир не застёгнутым на все пуговицы, что его мучает позыв Неутолённой Страсти. Желания его оказались воистину грандиозны.
— Я хочу, — заявил он, и голова его дёрнулась назад, сразу и высокомерно, и нервически, выдавая мечту вкусить запретный плод, который мог обернуться для него отравой, — стать Художником.
Я стал уверять, что есть и худшие разновидности честолюбия, но в ту минуту не сумел вспомнить ни одного подходящего примера.
Чем более он настаивал, тем краснее становилось его лицо и тем сильней дёргалась голова. И чем резче она двигалась, чем ярче обозначалась приливающая к физиономии кровь, тем сильнее выпячивались губы, словно в стремлении преодолеть какой-то детский дефект речи. И чем более выдавались эти губы, точно рыло солнечника с его способным чуть не до бесконечности выдвигаться вперёд ртом, тем более я терялся в догадках, действительно ли он мне что-то говорит или пытается высосать из меня своим невероятным ртом то самое важное, что должно питать его безумные эстетические устремления.
Затем, наверное, его одолела ностальгия по добрым старым временам, и он задал мне хорошую трёпку, пустив в ход даже сапоги. После чего я заверил тюремщика, что он обладает всем необходимым для успешной карьеры живописца, но, к сожалению, рот мой слишком сильно распух, чтобы я смог доставить ему удовольствие, перечислив, что именно, а ведь его действительно отличали и должная посредственность, и способность жестоко расправиться с вероятными соперниками, и желание не просто самому добиться успеха, но и увидеть, как неудача постигнет собрата по цеху, а также потрясающие неискренность и способность предать. Фортуна благоволит глупцам, хотелось мне объяснить ему, но я только и сумел, что выплюнуть зубы вместе с кровью. Тогда Побджой расплакался и заговорил про вечное своё невезение; ему не пофартило, когда его забрили в солдаты, затем он имел несчастье отправиться служить в этакую даль, в этакую глушь, но худшая неудача состоит в том, что ему приказали сторожить таких олухов, как я. Мне удалось-таки привести свои губы в движение, и я завёл очередную историю, чтобы позабавить, утешить и хоть как-то воздать за его несчастную долю, но это лишь опять разозлило его, и он велел мне заткнуться.
— Я позабочусь о том, чтобы тебя утопили и четвертовали, — заорал он, — я сам лично стану сечь твою спину, пока от неё ничего не останется, пока все девять хвостов кошки не выскочат с противоположной стороны, чтобы пощекотать тебе грудь!
Он шмыгнул носом, втягивая поглубже сопли, и, когда те достигли глотки, прочистил её, а затем сплюнул, попав-таки в меня, и спросил:
— Ты что, правда такой полоумный, Гоулд?
Я был не настолько глуп, чтобы спорить с представителем власти, а потому, отирая лицо рукой, смиренно признал его правоту.
— Заткнись! Немедля заткнись, ты, тупой ублюдок, или ты настолько туп, что не можешь понять, насколько осточертел мне со своими дурацкими россказнями? Если ты ещё скажешь хоть слово, я опять задам тебе взбучку!
И я рассказал ему про некоего Неда Хеннесси родом из Уотерфорда, который был такой простачок, что приятели однажды вздумали разыграть его. Они обставили дело так, будто один из них умер, положили его в гроб и попросили Неда Хеннесси покараулить ночью с пистолетом — на случай, если потусторонние силы захотят выкрасть их друга. Посреди ночи предполагаемый труп поднялся и сказал: «Привет, Нед!» — а тот, напуганный темнотой, вытащил пистолет и — бац! — влепил заряд падкому на шалости приятелю прямо в лоб!