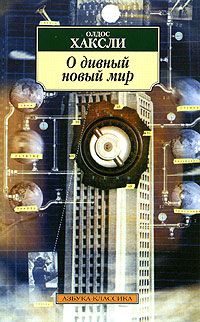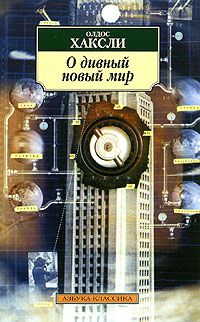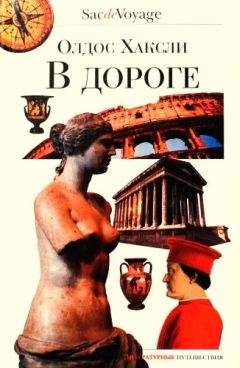Олдос Хаксли - Слепец в Газе
— Он был слишком глуп для этого, слишком некультурен.
«Не просто старая ведьма, однако, если она просит дорого за молчание. Проблема в том, чтобы дать ей достаточно. Это не такая уж простая задача, смею тебя заверить».
Тон ее голоса сменился от разгневанного до жалобного.
— Но что мне делать? — взмолилась она. — Что я могу сделать? У меня нет ни гроша. Я живу на подаяние.
Он пытался убедить ее в обратном. Что-то обязательно оставалось. Небольшая, но достаточно приличная сумма. С голоду она никогда не умрет. Если бы она жила умеренно, если бы научилась экономить…
— Но мне придется снять более дешевую квартиру, — прервала она его и, когда он согласился, что ей, несомненно, придется отсюда съехать, выдала новую, более громкую порцию жалоб. Сменить жилье на более дешевое еще хуже, чем остаться без гроша и жить на милостыню — хуже, потому что более ощутимо. Без картин на стенах, без ее мебели — как она могла жить? Она и так физически больна, и теперь переезд в маленькие комнаты — да у нее там разовьется клаустрофобия. И как ей обойтись без необходимых книг? Как он надеялся, что стесненные обстоятельства заставят ее начать работать. Ведь ей, конечно, придется работать; она уже думала написать критическое исследование одного современного французского романа. Да, как он хотел, чтобы она это сделала, если благодаря ему она лишалась литературы?
Энтони беспокойно завертелся в кресле.
— Я не ожидаю от тебя ничего, — сказал он. — Я просто говорю о том, что ты сама сочтешь нужным сделать.
Они долго молчали. Затем, с едва заметной улыбкой, которую она попыталась сделать вкрадчивой и обаятельной, она проговорила:
— Теперь ты будешь на меня сердиться.
— Нисколько. Я просто хочу, чтобы ты реально посмотрела в лицо фактам. — Он поднялся и, почувствовав реальную опасность быть сильно втянутым в беды Мери, символически заявил о своем праве на свободу тем, что стал ходить взад-вперед по комнате.
«Я должен поговорить с ней о морфии, — думал он, — попытаться убедить ее лечь в больницу и вылечиться. Для ее же пользы. Ради бедной Элен». Но он знал Мери. Она начнет сопротивляться, будет кричать, впадет в раж. Будет выть, как волк. Или, что еще хуже, гораздо хуже, подумал он с содроганием: она раскается, пообещает бросить, изойдет слезами. Окажется, что он ее единственный друг; моральная опора в жизни. В результате он не сказал ничего. «Это не доведет ее до добра, — уверял себя он. — От случаев с морфием ничего хорошего не жди».
— Нужно трезво оценивать реальность, — произнес он вслух. Бессмысленная банальность, но что еще он мог сказать?
Неожиданно, с покорной быстротой, которую он нашел определенно недоброй, она согласилась с ним. Согласилась всецело. Нечего было плакать над разлитым молоком или строить воздушные замки. Необходим план — множество планов — серьезных, практичных, мудрых планов новой жизни. Она улыбнулась ему с некоторой долей потворства, словно они были парой конспираторов.
Неохотно, с недоверием он принял ее приглашение посидеть на краешке кровати. Планы разворачивались сами — достаточно серьезные. Маленькая квартирка в Хэмпстеде. Или же небольшой домик на одной из грязных улочек рядом с Кингз-роуд[269], в Челси. Время от времени она даже сможет устраивать недорогие вечеринки. Будут приходить настоящие друзья несмотря на скромность предложенного — они ведь не откажутся. Она упорствовала с довольно жалким желанием, чтобы ее переубедили.
— Конечно, — пришлось сказать ему, хоть не дешевизна заставляла их избегать ее общества, а грязь, нищета, морфий, этот невыносимый запах эфира при дыхании.
— Можно устраивать винные вечеринки, — говорила она. — Это будет здорово! — Ее лицо засветилось. — Ты, Энтони, какую бутылку принесешь? — И до того, как он успел ответить, она продолжала: — Нам будет бесконечно туго с напитками. Бесконечно… — И секунду спустя она принялась рассказывать о внимании, которым Джордж Уиверн вдруг принялся окружать ее тогда. Довольно странно при таких обстоятельствах, видя к тому же, что Сэлли Уиверн тоже… Она улыбнулась своей загадочной улыбкой — со сжатыми губами и полузакрытыми глазами. И что уж было совсем удивительно — даже старина Ледвидж недавно подавал ей знаки…
Энтони удивленно слушал. Те сочувствующие, немногие, но настоящие друзья превратились, словно по воле колдовства, в натуральную стаю пылких любовников. Верила ли она серьезно в свои собственные планы? Но так или иначе, продолжал размышлять он, это, казалось, не играло никакой роли. Даже невыполнимые, эти фантазии определенно могли поднять ее дух, восстановить ее, по крайней мере временно, до состояния бодрой самоуверенности.
— В тот раз в Париже, — говорила она с той откровенностью, на которую только была способна. — Ты помнишь?
Но это было ужасно.
— Отель «Сен-Пер»[270]. — Ее голос завибрировал и потонул в низком гортанном смехе.
Энтони кивнул, не поднимая головы. Она, видимо, хотела, чтобы он ответил ей хотя бы намеком на многозначительную улыбку, вызванную скабрезным напоминанием о той старой шутке о святых отцах и их развлечениях с высшей церковной санкции. На их жаргоне «поиграть в святого отца» или, более идиоматично, «сыграть святошу» означало «заняться любовью». Он нахмурился, внезапно разгневавшись. Как она посмела?..
Шли секунды. Сделав отчаянное усилие, чтобы заполнить ледяную пропасть молчания, Мери произнесла, словно сентиментально вспоминая о прошлом:
— Мы славно веселились тогда.
— Славно, — повторил он голосом как можно более вялым. Внезапно она схватила его за руку.
— Энтони, милый!
«О боже», — подумал он и попытался как можно вежливее высвободиться, но хватка горячих и сухих пальцев не ослабевала.
— Как мы были глупы, когда ссорились, — продолжала она. — Точнее, я была глупа.
— Не так-то уж, — вежливо заметил он.
— Это дурацкое пари. — Она покачала головой. — И Сидни…
— Ты добилась того, что хотела.
— Я напоролась на то, чего не хотела, — быстро возразила она. — Всегда выходит то, чего не хочешь — глупо, из чистой вредности. Выбираешь худшее только потому, что оно худшее. Гиперион против сатира — и, следовательно, сатир.
— Но при определенных целях, — не выдержав, произнес он, — сатир лучше удовлетворяет.
Не обращая внимания на его слова, Мери Эмберли вздохнула и закрыла глаза.
— Делаешь то, чего не хочешь, — повторила она, словно про себя. — Всегда делаешь то, чего не хочешь. — Она разжала пальцы и, положив ладонь под голову, откинулась на подушки с уверенностью — старой знакомой уверенностью, что в отеле «Сен-Пер» была та сладостная по своей изящности беззаботность, дико-волнующая из-за белой тесемки, перевязанной вокруг горла, как у жертвы, выпяченных грудей, поднятых и твердых под кружевами. Но сегодня кружева были грязными и рваными, груди изможденно обвисли, горло жертвы было не более чем увядшей плотью, сморщившейся, полой между вздувшихся сухожилий.
Она открыла глаза, и он с испугом узнал взгляд, который она бросила ему, как тот же самый, фотографически тот же взгляд, одновременно полуобморочный и циничный, насмешливый и вяло-рассеянный, который неудержимо манил его тогда, в Париже, пятнадцать лет назад. Это был взгляд тринадцатого года на лице двадцать восьмого — болезненно неуместный. Он в ужасе вглядывался в ее черты секунду или две, затем решился нарушить молчание.
— Мне нужно идти.
Но до того, как он успел подняться, миссис Эмберли быстро нагнулась вперед и положила руки ему на плечи.
— Нет, не уходи. Тебе нельзя уходить. — Она пыталась повторить то весело-соблазнительное приглашение, но не смогла скрыть сильное волнение, таившееся в ее глазах.
Энтони покачал головой и, несмотря на запах эфира, искренне улыбался, когда лгал насчет званого ужина, на который ему нужно было поспеть к одиннадцати. Стоя у края кровати, он мягко, но точным и решительным движением отвел ее пленяющие руки.
— Спокойной ночи, дорогая Мери! — Его голос был теплым; теперь он мог позволить себе быть дружелюбным. — Bon courage![271] — Он сжал ее запястья, затем, нагнувшись, поцеловал руки — сперва одну, потом другую. Затем он поднялся и, как только путь к свободе открылся перед ним, почувствовал, что свобода позволит ему любую экстравагантность чувств. Но вместо того, чтобы что-то сказать, Мери Эмберли посмотрела на него взглядом, теперь уже пристальным и недвижным, словно каменным от неминуемого несчастья. Маска, которая казалась ему светящейся любовной капризностью, внезапно стала жуткой от столкновения с реальностью. Он всем своим существом почувствовал эту неуместность. Дурак, лицемер, трус! И он почти бегом рванулся к двери и ринулся вниз по ступенькам.