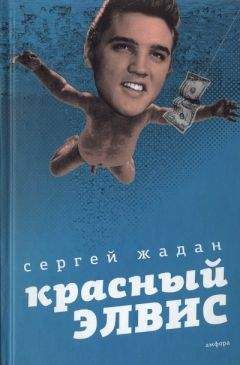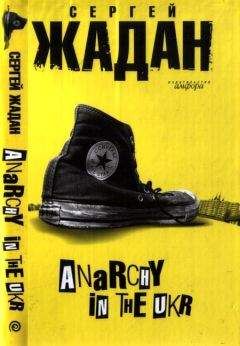Сергей Жадан - Ворошиловград
Трава вдоль полосы была скошена и остро пахла застывшим соком. Строения — темные и пустые, как кухонная посуда, — призрачно высились среди осенней растительности, среди кукурузы, что подступала отовсюду, угрожая затопить собой все щели, пробить асфальт своими сухими стеблями и острыми корнями, заползти в окна и канализационные люки, вытянуться на стены и жестяные крыши, навсегда похоронив следы пребывания здесь нескольких поколений авиаторов. Ветер приносил от гаражей запах нагретого солнцем машинного масла, которое въелось в землю, делая ее бесчувственной.
— Кто он? — спросил я Травмированного, указывая взглядом за строения, туда, где остался седой со своим кейсом.
— Их адвокат, — ответил Шура. — Из центра.
— А Владлен Марленович или Марлен Владленович — это кто?
— Босс. Пастушок Марлен Владленович.
— Ты его знаешь?
— Нет. Он здесь почти не появляется. Так что его никто не знает. Но все боятся.
— Сколько ему лет? — спросил я.
— Да откуда я знаю? — удивился Травмированный. — Говорят, совсем молодой.
— Мутный он какой-то, этот адвокат, — сказал я, еще раз обернувшись на строения.
— Да адвокат нормальный, — не согласился Шура. — Мне этот пидорок не нравится лысый. Точно какую-нибудь подляну подбросит.
И, засунув руки в карманы куртки, побрел вдоль взлетной полосы, пиная тяжелыми ботинками пустые банки из-под пива, которые попадались ему под ноги.
— Послушай, — обратился я к Эрнсту, кутавшемуся в старую шинель. — Ты знал Артура, Тамариного мужа?
— Артура? — задумался тот. — Артура знал. Мы даже бизнес с ним делали. Прогорели, правда.
— Как они с Тамарой жили?
— Хорошо жили, — ответил Эрнст. — Правда, недолго. Он к Тамиле от нее ушел, к сестре ее.
— Серьезно?
— Ну, — подтвердил Эрнст. — Там такая история была! Буря и натиск! Они едва не убили друг друга. Тамила даже вены резала. Видел, сколько у нее на руках разных штук? Это чтобы шрамы видно не было. Они года два не разговаривали, потом помирились.
— Он погиб?
— Артур? Нет, уехал. В Голландию. Торговал машинами, открыл ресторан. Он им пишет иногда. Причем — обеим сразу.
— А ты откуда знаешь?
— Что знаю? — не понял Эрнст.
— Ну, про шрамы, про то, что пишет.
— Так я жил с Тамилой, — объяснил Эрнст, — полгода. Потом она захотела детей. А я был не готов: авиация, сам понимаешь.
— А так по ним и не скажешь, — удивился я, — по сестрам. Тихие такие.
— Да, Герман, — согласился он. — Жизнь — вещь вообще малопонятная. Никогда не скажешь, что прячется под поверхностью. Так вроде всё знаешь, всё видел, а как оно было на самом деле — даже представить себе не можешь.
Я огляделся вокруг. Действительно — как оно было на самом деле?
Цепкая и жесткая пшеница, которая здесь росла годами, не давала им идти, преграждала путь, так что нужно было на каждом шагу разрывать сухие, переплетенные между собой стебли. Они приближались в солнечном свете, шли крикливой веселой гурьбой, и тени путались у них под ногами, как охотничьи псы. Из золотых солнечных волн, из горького октябрьского воздуха выходили друг за другом молодые улыбающиеся пилоты в кожаных шлемах и куртках, с коричневыми планшетками, с тяжелыми часами на руках. Шли, перекрикиваясь, шутили по поводу какого-то давнего случая, произошедшего именно здесь, на этом аэродроме, лет двадцать назад, так что всё уже забылось и стерлось из памяти, и нужно было, чтобы они снова здесь появились, вспомнили и рассказали. Колосья забивались им в сапоги и карманы, паутина липла у них между пальцами и ложилась на волосы, они смахивали ее легкими движениями, упорно старалась выбраться из этой бесконечной пшеницы. Механики в черных комбинезонах, шедшие позади, несли в руках брезентовые мешки с письмами и бандеролями, корреспонденцией, которую они хранили всё это время. Мешки отсвечивали на солнце зеленым огнем. Механики, смеясь, задирали головы, рассматривая звонкий фарфор октябрьского неба, и глаза их легко прищуривались под солнцезащитными очками. Но и это были еще не все, поскольку позади, сильно отставая и не успевая за пилотами, какая-то странная авиационная команда выкатывала из солнечного марева разболтанное тело самолета, оранжевую от солнца и пыли тушу Ан-2, вспыхивавшую в воздухе железом и краской. Катили его, заливаясь потом и задыхаясь от пыли, только чтобы не оставлять машину посреди поля.
Пилоты шагали по взлетной полосе в сторону ангаров, пустых и гулких, в которых темно стоял воздух, словно речная вода в шлюзах. И когда уже голоса их исчезли за постройками, когда механики, сбросив мешки с почтой прямо на асфальт, разбрелись по гаражам, наполнив их смехом и криками, те, последние, тоже наконец достигли полосы, выкатили из густой пшеницы кукурузник, оставив его как раз напротив административных зданий. Прожженная солнцем и высушенная засухой машина, сплошь опутанная травой и паутиной, застыла посреди взлетной полосы, словно колеблясь — куда ей лететь, в каком направлении, по какому маршруту. И вдруг откуда-то из глухого самолетного нутра послышался настойчивый шорох, будто кто-то изнутри натыкался на обшивку, ища выход. Двери самолета с треском распахнулись настежь, и оттуда, из черной душной глубины, в яркие солнечные лучи начали выскакивать рыжие лисицы и черные коты, полетели голуби и цапли, запрыгали речные лягушки и посыпались, как груши, летучие мыши. И вся эта летающая приблудная фауна, которая пряталась на борту, страдая от жары и духоты, кинулась врассыпную, подальше от адской машины, прочь от всех воздушных ям, выкопанных для их животных душ в приграничном небе.
— Герман, — Травмированный тронул меня за плечо. — Ну ты идешь?
Седой с Николаичем так и стояли друг напротив друга, словно танцоры на паркете. Седой нависал над коротконогим Николаичем и что-то ему злобно цедил, так что Николаич весь съежился, понуро кивая головой. Но когда мы подошли, оба замолчали.
— Ну что? — спросил Шура.
— Еще пять минут, — ответил седой. — Давайте уже дождемся.
— Ну давайте, — согласился Травмированный. Впрочем, особого выбора у него не было.
Мы стояли, молча и напряженно считая секунды, пытались не смотреть друг другу в глаза и разглядывали трещины на асфальте — глубокие, как морщины на лице клоуна.
Вдруг у Николаича зазвонил мобильный. Он суетливо вытащил его из кармана и поднес к вспотевшему от волнения уху.
— Алло! — слишком громко для такой безлюдной местности сказал Николаич. — Да! Да, Марлен Владленович, здесь! Со мной! Да! Даю! Вас! — он с облегчением протянул трубку седому.