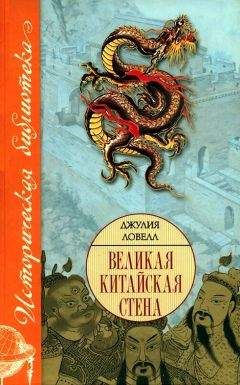Александр Архангельский - Цена отсечения
Пришла моя очередь спрашивать: где я-то, Степа? Я-то здесь при чем?
Ты, верно, замечал: со мной происходит неладное. Давно уже происходит. И устроил все это безобразие с подростковыми погонями, машинками, девчонками и ряжеными дедами морозами, борода из ваты. Мне было очень обидно, когда все открылось, я чувствовала себя голой перед всеми. Но умом я все-таки понимаю, что ты не думал меня задеть. Ты просто слишком долго живешь в каком-то странном мире, где все считается по ходам, бьется доводами, пускается по ложному следу. Ты ведь от нас откупаешься, Степа; стоит с тобой заговорить о какой-то душевной проблеме, ты тут же спрашиваешь: сколько? Щедро предлагаешь, бескорыстно. Но так, чтобы тебя ни о чем больше, кроме денег, не попросили. Ты думаешь, что люди все такие. Нет. И всё равно, Степа! ты хотел меня развлечь, спасибо».
Да не развлечь, не развлечь – встряхнуть, накатить электрошоком, чтобы сердце забилось заново. Умом она понимает. Было бы чем.
«Но вот какое дело, Степа. Все эти годы я жила за тобой, как за каменной стеной. Мне не нужно было даже выглядывать из-за этой стены; все необходимое для удобной жизни мне доставляли в норку. Но ты меня из норки выманил. И думал, что посадишь в большую клетку. Золотую, конечно же. И просторную. Тоже – твою. Но так случилось, Степа, что я из норки вышла, а в клетку не попала. То ли ты ее случайно запер, то ли сторожа оказались не самые лучшие. Я впервые в жизни оказалась полностью свободной. До ужаса свободной. Я была предоставлена сама себе. Мне стало страшно, неуютно. И очень интересно. А как оно там, за пределом?»
Что, собственно, и требовалось доказать.
«А там оказался свежий воздух. И другие люди. От которых я отвыкла.
Степа, что крутить. Я полюбила. Пишу и краснею. Старая тетка, а туда же».
Забавный поворот событий. Молдаваны-то были правы, черт их совсем побери.
«Я не хотела себе признаваться. Между прочим, он тоже признаваться не хотел – себе. Потому что – ну, ты понимаешь, почему. Потому что он Иван Ухтомский, костромской актер, которого ты нанял, чтобы со мной поиграться в задетые чувства. Он поигрался и чувства задел. И мои, и свои. Но мы оба держались, ждали, когда рассосется.
Степа! если бы ты не стал дразнить меня через Аню, клянусь, ничего бы не случилось. Ничего. Вспыхнула бы страсть и угасла. Я ведь не была уверена, что мы подходим друг другу, что все это мне хоть зачем-то нужно. Но после Ани я как с цепи сорвалась. Вскрыла гнойник. И уже остановить себя не могла. А потом проросло. И все случилось, что должно было случиться. Вот так я скажу. Невнятно. Но ты, я уверена, понял.
Прости, я понимаю, что тебе больно, особенно после стольких лет уверенности, что я – навсегда, что не предам, не сдам, на шаг не отойду. Ты, наверное, сидишь сейчас и думаешь, что я тебя предала, что мир сволочной, что единственный человек, которому верил, и тот оказался, и т. д. и т. п. Особенно сейчас, когда ты попал в историю, и тебе не до тонких эмоций. Всякий, кто с тобой сейчас – друг, а кто не с тобой – враг.
Но, Степа! я жутко дергаюсь, и при этом ни о чем не жалею. Я тебе не враг, никогда им не была и никогда не буду. Но я пережила такое, о чем даже смутно не догадывалась, и теперь мне страшно подумать, что я могла умереть, никогда не испытав этого. Женщина существо нежное, уступчивое, пока не полюбит. Неважно кого. Полюбит. Она. Как только полюбит – жестокое без оглядки. Мужчина таится, ходит кругами, пытается сохранить все как есть, делает всем плохо и себе в особенности; женщина если решилась, значит решилась. Я решилась, Степа. Прости, если сможешь. Я хочу жить своей, отдельной жизнью. Я хочу счастья. Даже если его не бывает.
На Ивана зла, пожалуйста, не держи. Это все я. Он сломался под моим напором. А ты и не знал, что у меня есть напор… Я тоже не знала. Помнишь, у писателя Шишкова (кроме нас, томичей, кто его мог читать?) в «Угрюм-реке» героиня, Нина, берет управление заводом на себя? До этого она была добрая, сердечная, вступалась за права рабочих, охлаждала норов жестокого мужа. И вдруг: подавить! не отступать! Вот оказалось, что и я такая.
И сейчас ты в этом убедишься.
Степа. Я была мужней женой. Я бы ею охотно и осталась. Но вышло как вышло. И мне нужно будет научиться жить самостоятельно. Представляя интересы Тёмы. Я не сумасшедшая, не собираюсь требовать раздела имущества, распределения портфелей и оффшоров (на список которых ты сам меня навел, увы). Но хочу знать, каково твое мнение на этот счет. Как мы будем договариваться. На каких реальных условиях.
Еще одна неприятность – для тебя.
Мои интересы будет в этом деле представлять Забельский. Он и только он. Соломон совсем обрюзг, но все-таки он дело знает. Можно было, конечно, подыскать кого-нибудь стороннего, но не хочу. Тут уж сердись, не сердись: это моя маленькая месть за твою дурацкую затею. Но без этой затеи моя жизнь не повернулась бы на сто восемьдесят градусов… Не знаю, проклинать тебя или благодарить. Не знаю, как все объяснить Тёме. Ничего не знаю. Ни-че-го! Ныряю с головой в поток.
Еще раз прости меня, Степа. Не только за то, что ухожу. Но и за то, что я к концу письма как-то вдруг разозлилась, прижала ушки, зашипела. Не обращай внимания на тон, пожалуйста. Я не хотела. А переписывать письмо сил нет. Да и, может быть, если не отправлю то, что сходу написалось – уже никогда не решусь объясниться. И опять заползу в пыльную норку. И порушу то, что начало уже строиться. Нет!
Прости меня, если можешь. Прости. Отправляю немедленно.
Чтобы не успела передумать.
Жанна».
Вот и разрешилась проблема Ваниного гонорара… Мелькисаров был раздавлен, можно сказать, что убит. Но взял себя в руки, надел дежурную улыбку и пошел обратно, пировать.
13К недовражинскому дому была пристроена летняя кухня и сколочен представительский стол, человек на сорок-пятьдесят. Специально для подобных случаев. Под навесом протянулась металлическая сетка; на сетке лежали булыжники, от них исходило тепло. Из бани подтащили? нет, разогрели электричеством; грамотно.
Сельские смешались с городскими, русские с иностранцами; пиршество началось.
Федотовна разливала борщ, стараясь зачерпнуть погуще, с кусочком жирного мяса; неприметные мужички подносили жареную домашнюю колбасу; женщины невнятного возраста предлагали вареной картошки из дымящихся чугунков; блаженно улыбаясь, Коля разламывал черный хлеб и хвастливо раздавал гостям: «Сам пек! Сам пек! Сам пек!». Искяндеров радушно выставил на общий стол четыре банки болгарского лечо: лично от себя. Недовражин говорил положенные тосты; гости выпивали и закусывали, сельские – есть ели, пить не пили. Впереди работа и праздник, а уж после погуляем, как вам и не снилось…
Первое, второе, третье; бабы разложили пироги, полоумный Коля и механик Витя, пригибаясь, подтащили царский самовар. Трехведерный, покатый, латунный, с непомерной загнутой трубой, из которой вырывался темный дух сосновых шишек. Самовар жил своей отдельной жизнью: шипел, плевался, исходил паром; Недовражин, разливавший чай по сколотым чашкам, походил на домового.
Искусствоведы перебрали, а трезвые телевизионщики получили отставку: снимать на камеру процесс коллективной сборки Недовражин не позволил. Приезжих разбросали по избам, баиньки, и потянулись на церковный холм.
Пузатые короба, членистоногие ответвления, спиралевидные отсеки просторно разбросали возле фундамента, установили лестницы и козлы – и началась упорная работа возведения. Остатки камня скрылись под сплетеньями стволов и веток; вверх, неуклонно, устремилась многоярусная башня; уровень за уровнем, ступень за ступенью; каждый следующий ярус чуть уже и чуть ниже предыдущего; выше, выше! тоньше, тоньше! Время от времени точный строительный план словно бы давал физиологический сбой; башня возбуждалась собственной силой и давала неприличные отростки. Несомненным было и ее округлое, раздвоенное завершение; русская башня соблазняла всемирное небо, дразнила вечность и звала совокупиться.
Недовражин не руководил, не вмешивался по мелочам; он, как полководец, наблюдал за общим ходом битвы – и само его присутствие уже вносило строй и ясность. Каждый чувствовал: хозяин здесь, он видит; каждый понимал, что нужно делать, а чего – не надо; в какой последовательности приплетать очередные кольца и в каком направлении выпускать отросток; бабы непристойно шутили, мужики похохатывали, но работа шла сосредоточенно и методично, по-немецки.
Мелькисаров сидел с Недовражиным на плетеном вербном табурете и следил за строительством башни. Настал его черед повествовать; он подробно и неспешно говорил про то, что было после Томска; Недовражин молча слушал. Друг на друга они не смотрели, только вперед и вверх, как египетская парная скульптура.
14– Дядя Ваня! осторожней! Коля, лестницу страхуй! – Недовражин подался вперед; падение предотвратили; он успокоился и подытожил: – Исповедь сдал, исповедь принял; ты, Мелькисаров, лорд Байрон для среднего класса!