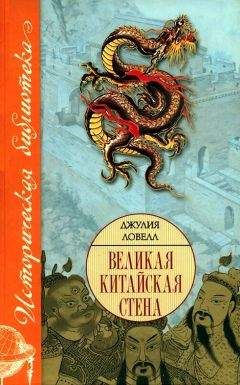Александр Архангельский - Цена отсечения
Недовражин мог теперь хотя бы ненадолго сняться с якоря и пожить в движении, чтобы насладиться жизнью сквозь печаль. Его давно заманивали в Европу; но какая могла быть Европа. А теперь он полетел в Италию, на месяц, демонстрировать кулебинское видео; ездил по роскошному заброшенному Югу, по уравновешенному Северу, восторгался Сциллой и Харибдой, растворялся в перепадах Таормино, курил вонючие тосканские сигары, выедая дымом все живое и летучее; итальянские студенты и студентки ликовали. Вернулся с подарками: набор сигар для дяди Вани, баночку трюфелей для медсестры Новоделовой, пьемонтские брелоки для Коли-дурачка…
А село встретило молчанием и запахом жженого дерева. Поперек дороги остро торчали горелые сучья – все, что сохранилось от плетеной страны; гнезда были сбиты и раскурочены, а деревянные птицы прострелены из Колиного ружья. Село осталось без хозяина, тут же растерялось и упилось до полусмерти. Индейцы, потерявшие своего Чингачгука. Искяндеров предпочел на время съехать; магазин стоял пустой.
Недовражин понял, что попался. На неделю уехать он может, на две опасно, на месяц – табу. Он создал сельский перформанс; перформанс ожил, чавкнул и его поглотил. Только ножки торчат из проекта. А если вдруг эпоха переменится? народные штучки выйдут из моды? он заболеет – как Оля – помилуй Господь? или жизнь развернется в другом направлении, он полюбит, женится, уедет? Все возможности перечеркнуты. Нельзя болеть, влюбляться, уезжать; только бежать, бежать, бежать по кругу, как белка в колесе. Бить лапками без остановки. Притормозишь – порвет в клочки. Или другой выразительный образ. Монастырь. А он отец игумен-беспоповец. Никто не постригал, не принимал обетов, а все равно – с креста не сойдешь… А крестьяне все играют в барина и крепостных; знали бы, какой ценой игра оплачена…
Так он теперь и кочует. Каждый вторник уезжает в город, чтобы не отстать от жизни. Каждую пятницу возвращается, чтобы не лишиться общего дела. И ничего не переменишь, как будто дал пионерскую клятву.
Недовражин захмелел, говорил торжественно и нечетко. Но сохранял самоконтроль. Поэтому себя и оборвал.
– Мелькисаров, спать пора. Уступаю тебе комнату, сам лягу здесь.
– Недовражин, прости за нахальство. А негде постелить отдельно? Ты по-своему псих, а я по-своему. Мне тоже надо в келью, чтобы совсем одному. Я перекантуюсь в бане, ты не против?
– Окоченеешь. Тепло уйдет, часа в четыре поползет сырая изморозь, зуб на зуб не попадет.
– Дровишки-то остались? Подтоплю.
– Не угори. И не забудь проветрить.
11Степан проснулся, подтопил, к шести промерз до основания, в семь вывалился из парилки в предбанник: тут еще холоднее. Зато на улице – благодать. Земля затвердела; солнце упорно било в нее, а разрыхлить не могло. От реки доносился запах ледяной воды. Сразило ощущение незаслуженного счастья: целый день впереди, столько всего еще будет!
Недовражин уже ушел; дверь открыта, на столе записка: «Навожу порядок, завтракай сам». Мелькисаров ограничился чаем и затиркой из черной смородины: аромат божественный, всесильный, как будто ягоду перетерли только вчера. А когда прибирался на кухне, заметил новехонький смартфон – брошенный среди ножей и вилок. Попробовал включить. Батарейка работает; сигнал не ловится; зачем же тогда ее подзаряжать?
Недовражин был у дяди Вани. Во дворе, среди разбросанных плетеностей из вербы, кучковалась съемочная группа; оператор нависал над камерой, как тяжелая чайка над рыбой; в сторонке, зевая, стоял помощник и улавливал солнечный луч в серебристый мягкий отражатель; пышная красавица сияла синими глазами; дядя Ваня охотно позировал: в белой холщовой рубахе под новеньким ватником, подсвеченный золотистым лучом, он без малейшей суеты, сосредоточенно и глубоко осматривал свое творение и думал, что бы в нем еще улучшить.
– Дядя Ваня, – интересовалась красавица, заранее зная ответ. – А что для вас значит – искусство?
Дядя Ваня отвечал привычно, со слезой:
– Я же пропил всю свою жизнь, что я мог видеть? Только на старости лет прозрел. Михалыч, мне так доплетать или эдак?
– Стоп, снято! – скомандовал оператор.
Дядя Ваня охотно ссутулился и, позабыв об окружающих, сел доплетать боковину проекта. В угол рта он сдвинул папироску, от дыма прищурился, стал похож на старого мастерового: то ли сочная картина Перова, то ли жизненный мрамор Антокольского. Красавица мигнула оператору; тот понял с полуслова и снова нырнул в окуляр.
Костя объяснил, что сигнал в низине не ловится, только на взгорье, там, где раньше стояла церковь; в ней потом был местный элеватор, вечно перегретый подгнивающим зерном, а теперь торчал зазубренный фундамент: в конце восьмидесятых стены раскололи на кирпич.
– А так, конечно, пользуйся.
Степан поспешил на вершинку, а медийная толпа переместилась к медсестре; у нее вдоль штакетника стояли странные одутловатые плетения, что-то среднее между дирижаблем, кактусом и членом. Потом был двор неуемной Федотовны – с кривыми коробами и опорными балками, похожими на курьи ножки. Подъехали немцы, французы; подтянулись культурологи; голоса горожан звучали глухо, низко и ровно, голоса кулебинцев звонко, высоко, разнообразно; село зашумело, засуетилось; близилось время обеда.
12.
Устроившись в удобной выемке фундамента, Мелькисаров зашел в Интернет, загрузил свою почту; с чужого телефона не опасно. В груду спама закопалось письмецо от Томского.
«Старик! Наслышан. Мутновато. На Украине ночью найден труп Лотяну. Нож – охотничий, с анаграммой. Свою СБ я зарядил, докладывают – не спеши. Попал под раздачу. Держим связь!»
Час от часу не легче.
«Старик! порядок, понял, жду, спасибо».
Вдавлена мягкая кнопка, электронка уже в Москве, и в эту минуту с веселым треском на экранчик падает еще одно письмо.
Жанна. Почему-то руки слегка затряслись.
«Дорогой Степа».
Плохо дело. Обиделась по-взрослому. Кто же станет мужу писать, как любовнику в самом начале романа – «Дорогой». Степа, Степка, Степочка, милый, любимый С. И эта точка в конце обращения. Хорошо еще не запятая.
«Дорогой Степа.
Мне очень тяжело писать».
Еще бы не тяжело. Тяжелей, наверное, чем ему читать. Когда выкладываешь близкому начистоту, что наболело, всегда возникает тошнотное чувство.
«Дорогой Степа.
Мне очень тяжело писать.
Не знаю, где ты, что ты. Хоть бы записку оставил. Впрочем, ведь я тоже не оставила.
Мы прожили с тобой почти что двадцать лет. Я и не помню себя – без тебя. Я давно уже не знала, какая я – сама по себе».
На этом месте положено капнуть слезой. Но почему не написать – «живем»? Почему – «прожили»?
«И думала, так будет навсегда. Можешь сейчас рассмеяться, но я женщина, я верю в эту ерунду, про любовь до гроба, и про то, что они жили долго и счастливо, и умерли в один день.
Степа!»
А, вот уже и просто Степа; хорошо.
«Степа!
Мы с тобой последние годы жили все отдельней и отдельней. Пока Тёмочка был рядом, это было не так заметно: дети, они как паутинки, оплетают; мы были повязаны с тобой – через него. Потом Тёмочка уехал. Ты так решил. Я не спорю. Наверное, по каким-то там своим расчетам и раскладам ты был безусловно прав, когда настоял на отъезде. Нужно думать о его судьбе, о будущем. Но живем-то мы с тобой в настоящем. Вот здесь мы живем. А потом умрем, и нас не будет. Но пока мы есть. И я – живая. Когда уехал Тёмочка, я вдруг поняла, насколько же я одна. Ты хороший, умный, с тобой так интересно, но все-таки ты сам по себе. И я сама по себе. А хочется быть вместе».
Ну вот, он тогда не ошибся в диагнозе. Все было сделано правильно, Жанна; кто же мог предугадать Тамариных уродов. Кто мог знать, что первое апреля обернется свинством. Если бы он был там… все бы сгладил. Да, Жанне стало немножко больно. Но зато потом наступит облегчение. Хирургия – это не жестокость. Это просто способ быстрого лечения.
«Я теперь понимаю, что чувствует мужчина, когда жена ему рожает ребеночка. (На самом деле рожает себе, но очень важно, что рожает – от него, от любимого, которым можно гордиться и который детям передаст всего себя; тут большая тонкость, я сейчас выразить не сумею.) По крайней мере первый год или два. Он чувствует то же самое, что чувствует мать, когда ребеночек вырастает. А я-то в ее жизни – где? Я тут – при чем?
Пришла моя очередь спрашивать: где я-то, Степа? Я-то здесь при чем?
Ты, верно, замечал: со мной происходит неладное. Давно уже происходит. И устроил все это безобразие с подростковыми погонями, машинками, девчонками и ряжеными дедами морозами, борода из ваты. Мне было очень обидно, когда все открылось, я чувствовала себя голой перед всеми. Но умом я все-таки понимаю, что ты не думал меня задеть. Ты просто слишком долго живешь в каком-то странном мире, где все считается по ходам, бьется доводами, пускается по ложному следу. Ты ведь от нас откупаешься, Степа; стоит с тобой заговорить о какой-то душевной проблеме, ты тут же спрашиваешь: сколько? Щедро предлагаешь, бескорыстно. Но так, чтобы тебя ни о чем больше, кроме денег, не попросили. Ты думаешь, что люди все такие. Нет. И всё равно, Степа! ты хотел меня развлечь, спасибо».