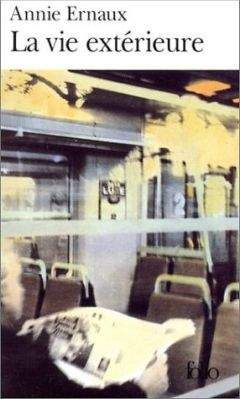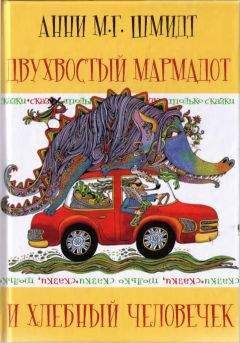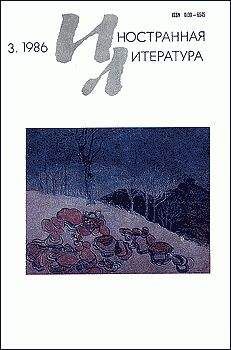Ян-Филипп Зендкер - Искусство слышать стук сердца
— Джулия, должен вас предупредить заранее. Там нет ни могилы, ни даже памятного камня. Ветер разнес его пепел во все стороны.
Почему-то я боялась увидеть кладбище. Страх был необъяснимым; мне казалось, что приход туда обозначит конец и моего жизненного пути.
Скверно вымощенная улица сменилась песчаной дорогой, уступившей место другой, глинистой и грязной. Вскоре я увидела первые могилы, едва различимые среди кустов и пожухлой травы. Надгробными плитами здесь служили серовато-коричневые бетонные прямоугольники. Некоторые были украшены нарисованным орнаментом и затейливой бирманской письменностью. Попадались и безымянные, сплошь покрытые пылью и мусором. Чем-то это напоминало заброшенную стройплощадку. Кое-где бетон растрескался, из трещин пробивалась трава. Иные плиты густо заросли папоротником. Скорее всего, за кладбищем вообще никто не ухаживал.
Мы поднялись на вершину холма и сели. Какое пустынное место! Если бы не тонкие нити троп, вьющихся по склону, можно было бы подумать, что человеческая нога сюда не ступала. И еще меня удивила полная тишина. Даже ветер не шелестел в траве и кустах.
Я вспоминала прогулки с отцом. Бруклинский мост. Паром до Стейтен-Айленда. Наш дом и теплые булочки с корицей по утрам.
Никогда еще я не находилась в такой дали от Манхэттена. Но я не скучала по Нью-Йорку. Наоборот, ощущала почти мистический покой. В памяти мелькали вечера, когда отец перед сном рассказывал мне сказки. Оперные спектакли в Центральном парке, под открытым небом. Складные стулья и тяжеленная корзинка для пикника. Мой отец не признавал одноразовых пластиковых ножей и вилок и бумажных стаканчиков. Он надевал строгий черный костюм, будто мы шли не в Центральный парк, а в Метрополитен-оперу… Теплый летний вечер. Огоньки свечей. Опера всякий раз усыпляла меня, и я дремала у отца на коленях. Я вспоминала его негромкий голос, смех, взгляд. Его сильные руки, подбрасывавшие меня в воздух. У меня и мысли не было, что эти руки ошибутся и я упаду на землю.
Теперь я понимала, почему отец жил с нами, но через полвека вернулся к Ми Ми. В Нью-Йорке его удерживало нечто большее, чем чувство долга. Я уверена: отец по-своему любил всех нас — маму, меня, моего брата. Но это не мешало ему любить Ми Ми. Он оставался верным всем, и сейчас я была ему за это очень благодарна.
— Возможно, вас заинтересуют некоторые подробности, — сказал У Ба.
Я вопросительно на него посмотрела.
— Погребальный костер Ми Ми находился вон там. А костер вашего отца — ярдах в двадцати от ее. Их зажгли одновременно. Дрова были сухими и быстро загорелись. День выдался на редкость тихим. Ветра не было, и оба столба дыма поднимались прямо к небу.
У Ба и так рассказал мне очень много, и сейчас я не понимала, куда он клонит.
— И что было потом?
— Воцарилась полная тишина. Людей было множество, но никто не произносил ни слова. Не было ни покашливаний, ни вздохов. Даже огонь перестал трещать и горел молча.
Я вновь мысленно увидела отца сидящим на краю моей кровати. Вокруг — светло-розовые стены. К потолку подвешены фигурки громадных полосатых пчел.
— И тогда животные начали петь? — спросила я.
У Ба кивнул.
— Несколько человек потом говорили, что слышали пение животных.
— А потом оба столба стали сближаться?
— Я сам тому свидетель.
— И хотя не было ветра, они двигались навстречу друг другу, пока…
— Не все истины поддаются объяснению, — перебил меня У Ба. — И не все, что поддается объяснению, является истиной.
Я смотрела на траву, которой давно заросли оба костра. Потом подняла глаза к небу. Оно было голубым и безоблачным.
12
Я проснулась в темноте и вспомнила, что лежу в гостиничном номере. Мне приснился кошмар. Во сне мне было лет двенадцать или тринадцать. Я спала в нашей нью-йоркской квартире, но меня разбудили странные звуки. Они доносились из комнаты отца. Я слышала голоса матери и брата. А отец… он шумно дышал, и каждое дыхание сопровождалось звуком, которому я не могла подобрать определение. Что-то вроде стона. Страшный, нечеловеческий, он наполнял всю квартиру. Я вскочила и прямо в ночной рубашке бросилась туда. Бежала босиком по холодному полу. Дверь отцовской комнаты была открыта. Мать стояла на коленях перед его кроватью.
— Нет! — исступленно повторяла она. — Ради бога, нет! Нет, нет, нет!
Брат тряс отца за плечи:
— Очнись, отец! Очнись!
Потом брат тоже встал на колени и принялся растирать отцу грудь и делать искусственное дыхание. Отец взмахивал руками. Его глаза были неестественно выпучены. Лоб и волосы блестели от пота. Он стискивал пальцы в кулаки. Боролся, не желая умирать.
Он снова застонал, и я вся сжалась. Отцовские руки двигались все медленнее. Потом они упали на постель, пальцы разжались. Еще через мгновение его руки безжизненно свесились.
Я проснулась и обрадовалась, что в реальной жизни не переживала ничего подобного.
Снова закрыла глаза и попыталась представить отца рядом с Ми Ми в их последние часы жизни. У меня ничего не получалось. Эта сторона отцовской жизни была от меня закрыта и теперь уже никогда не откроется. Но чем больше я думала о его смерти, тем лучше понимала: у меня нет причин скорбеть по отцу. Он и сейчас был рядом со мной. Каким образом, я объяснить не могла. Даже не могла оформить свои эмоции в слова. Чем-то они похожи на чувства маленького ребенка: ощущение безраздельной близости со своими родителями. Смерть отца не воспринималась мною как невосполнимая утрата. Уверена, она и его не пугала. Папа не противился смерти. Просто знал: настал час уйти из этого мира. Время и место он выбрал сам. И ту, с кем покидал этот мир, — тоже. Пусть я не находилась рядом с ним в его последние минуты. Это ничего не меняло и ничуть не уменьшало его любовь ко мне… С этими мыслями я снова уснула.
Вторично проснулась поздно, ближе к полудню. В номере было жарко, и я с удовольствием встала под холодный душ.
В углу столовой, на стуле, дремал официант. Наверное, сидит здесь с семи утра. Сейчас проснется и задаст привычный вопрос: «Яичница или омлет? Чай или кофе?»
Я едва успела усесться за столик, как увидела дежурного администратора. Женщина направлялась ко мне. Церемонно поклонившись, она подала мне коричневый конверт и сказала, что это от У Ба. Он заходил рано утром и просил передать.
Конверт был слишком толстым для одного лишь письма. Я вскрыла его. Внутри лежало пять старых черно-белых раскрашенных фотографий. Мне сразу вспомнились открытки двадцатых годов. На обороте каждого снимка карандашом была проставлена дата. Самый ранний датирован 1949 годом. Женщина на фоне легкой стены, сидящая в позе лотоса. На ней была красная кофта и лонгьи. Черные волосы стянуты в пучок и украшены желтым цветком. Женщина слегка улыбалась. Должно быть, это и есть Ми Ми. У Ба ничуть не преувеличил. Меня поразила ее красота и изящество. От Ми Ми исходило странное, почти сверхъестественное спокойствие, и оно-то поразило меня еще сильнее. Взгляд ее был пристальным, словно она смотрела исключительно на меня. Рядом сидел мальчик лет восьми или девяти, одетый в белую рубашку. Может, племянник, сын кого-то из братьев? Мальчик доверчиво смотрел в объектив фотоаппарата.