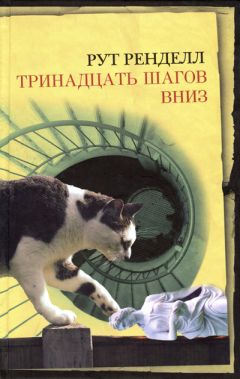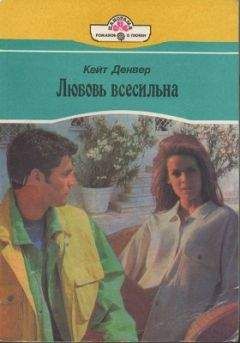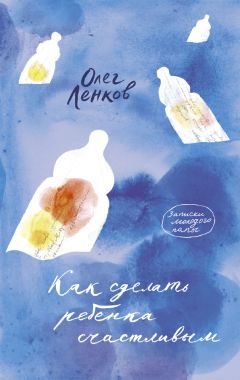Олег Врайтов - Записки фельдшера
Мужчина помолчал, рассматривая собственные руки. Было видно, что он судорожно пытается найти ответ, но поиск явно затянулся, утонув в судорожном перебирании аргументов.
— Вы говорили о внутренней потребности как мотива героического поступка, — наконец ответил он. — И о высших побуждениях. Дело в них, правда?
Я кивнул. Сверчок, словно ждал этого жеста, снова завел свою пронзительную песню.
— То-то и оно, уважаемый.
— Но, — заколебался пришелец, — в таком случае, откуда берется ваша ирония и равнодушие в отношении того бездомного? При вашей работе из высших побуждений?
— Защитный механизм, — пожал плечами я. — Человеческая психика — это очень хрупкое и легко травмируемое образование. Если мы начнем всерьез и близко воспринимать беды и проблемы каждого человека, мы долго не протянем. Сгорим заживо. Может, это и красиво в глазах ста человек, вылеченных мной, — гореть в огне сопереживания их болезням, но вот десять тысяч невылеченных, оставшихся вследствие этого без медицинской помощи, будут немного недовольны.
— Но упомянутые вами высшие побуждения…
— Послушайте, — потеряв терпение, перебил я, — от нас требуется спасение жизней. Но любить каждого спасаемого мы не обязаны. Тот пресловутый герой, вытаскивая пресловутого деда из задымленной комнаты, не будет петь ему дифирамбы. В девяти случаях из десяти он будет сыпать при спасении такими матюками, что дерево покраснеет! Но спасет же! И никто из чествующих его за этот акт героизма, включая дедушку, не попеняет ему за это проявление эмоциональной лабильности, раз он сделал то, что сделал. Это и отличает героев от нас — общественное отношение. Ни одного человека из толпы никто не пихает в спину со словами: «Давай, твою мамашу, шевели лапами, спасай!» — он это делает добровольно. Никто из той же толпы не скажет: «Как ты, скотина, деда тащишь — не видишь, рукав на рубашке порвал?!» Ни у одного свидетеля этого спасения не повернется язык сказать: «Ладно, спас — все, вали отсюда, дальше без тебя разберемся». Понимаете? Между понятиями «хочу добровольно» и «должен по гроб жизни» есть очень ощутимая разница.
— А что мешает вам уйти, раз все обстоит так, как вы описали?
Я устало улыбнулся.
— Знаете, Чебурашка, был такой случай в моем глубоком детстве. Дом наш был старый, с маленьким двором, во дворе лавочка стояла, а над ней сетчатый навес — вроде как беседка. Только толку от этого навеса не было, ни от дождя он не защищал, ни от солнца. И был у нас во дворе старик Васильич, с двадцать шестой квартиры. Как-то взял он, да и посадил около этой беседки черенки вино града. Купил их за собственные деньги, ежедневно ухаживал, как за дитем родным — благо, не было у него никого, всю душевную теплоту он на этот виноград перенес. Зимой его в полиэтилен и рубероид кутал, опрыскивал его чем-то, окапывал, поливал. Виноград вытянулся, пустил лозы, заплел беседку, стал даже плоды давать. На лавочке, особенно летом, просто рай стал — прохладно, тенек, виноградные гроздья рядом растут. Люди стали там по вечерам собираться, а до того все по квартирам сидели. Сблизились, в беседке сидя, так, как не сближались за все годы жизни в этом доме. Хотя все и ценили это, но помогать Васильичу никто не рвался. Мол, старается человек, ну и пусть старается, раз внутренняя потребность у него такая. И нам, добрым людям, не грех потешиться. Дедушка это знал, но не принимал близко к сердцу, все копался в земле. Но в один прекрасный день, я лично это видел, он шел мимо лавки, когда там сидели три наши языкастые бабки с первого подъезда. Их все, сколько помню, «скалозубками» называли. Ядовитые были бабенки, для каждого острое слово припасено было. Одна ему и крикнула тогда через весь двор: «Чего ты, старый хрен, так за лозой паршиво ухаживаешь? Виноград твой в этом году — кислятина, в рот взять противно!» Васильич аж побледнел, когда это услышал, за перила схватился. Мы с ребятами, помню, мяч бросили, домой его проводили, хотели даже бригаду «Скорой» вызвать, только он не разрешил. Слезы, помню, у него в глазах стояли. Это была обида, страшная, глубокая. И с тех самых пор он не подходил к винограду вообще. А тот, словно чувствовал, — перестал плодоносить, как раньше, зарос паутиной, а пару лет спустя вообще засох. Двор остался без беседки, а дом — без Васильича, он умер годом позже.
— Поучительно, — после длительной паузы произнес собеседник. — Я искренне соболезную. Но…
— Речь шла о простом винограде. Васильич мог уйти. А мы работаем не с виноградом и уйти не можем. Потому что лучше всех представляем, к чему приведет наш уход. Мы — рабы этой системы. Мы попали в рабство понимания нашей незаменимости для остальных, и не в силах теперь разорвать эти оковы. Мы можем ненавидеть пациентов, презирать их, злиться на них — но мы не можем не спасать. Но люди не собираются этого понимать, потому что не хотят заглянуть в душу врача, считая это слишком обременительным. Разовый добровольный героизм в почете, ежедневный «обязательный» — в потребительском презрении. Спас — пошел вон! Вылечил — проваливай! Если раньше путь медика прогулкой по ровной дороге, то теперь он превратился в бег с препятствиями. Если раньше вопрос оплаты определял, как нам жить, то теперь он определяет, как нам выживать. А любой человек, загнанный в угол, вне зависимости от степени своей человечности, борясь за выживание, становится волком. И требовать у волка сочувствия — нелепо.
Наступила тишина, прерываемая гудением лампы и трелями разошедшегося в недрах ЦСО сверчка. Мы молчали.
— Люди хотят жить, — медленно произнес Чебурашка. — Люди ничего не делают для этого. Люди хотят быть спасенными. Люди презирают и истребляют своих спасателей. Люди говорят о ценности жизни словами. Люди растаптывают эту ценность действиями. Какое будущее у вас, люди?
Я пожал плечами. Вопрос не ко мне, правда?
— Правда, — ответил на мою мысль пришелец. — Я благодарю вас за разговор, доктор. И… искренне надеюсь, что наша встреча когда-нибудь состоится еще, и тема беседы будет не столь болезненной ни для вас, ни для меня. Прощайте.
Он легко поднялся и направился к выходу из кабинета.
— Послушайте, — обратился я вслед уходящей спине. Чебурашка обернулся, вопросительно изгибая брови. — А почему бы вам не забрать того бродягу? Ну, не знаю… в качестве экспоната хотя бы. Думаю, для него все равно это будет лучше, чем замерзать на лавке.
Мой ночной гость печально улыбнулся.
— Я не вправе. Как и вы, я раб своей системы и не могу пойти на нарушение ее правил. Даже если бы очень хотел. Всего вам хорошего.