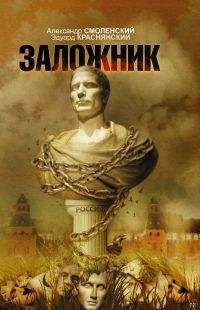Эйтан Финкельштейн - Пастухи фараона
«Отпустим мы вас, — говорили в КГБ Бедуну, — дайте срок — у вас ведь первая форма допуска! Только сидите тихо, учите иврит, с диссидентами не водитесь и не давайте людям читать Солженицына». Бедун решил сделать властям назло и… получил первый срок — три года ссылки. Вернулся, взялся за старое. Получил пять лет тюрьмы, отсиживать которые ему, правда, не пришлось. По личной просьбе президента Франции, Миттерана Бедуна освободили и выдали ему визу в Израиль.
На исторической родине Иосифа встретили как героя. Его светло-каштановая бородка украшала обложки журналов, его знаменитые слова — «Усилим борьбу за возрождение еврейской культуры в СССР» — красовались на уличных заборах.
После падения советской власти о Бедуне стали забывать. Его больше не приглашали на митинги, не называли героем и отцом алии. Немного погрустив, он подался в воинственную ешиву в Хевроне, где всякий раз старался попасть в объектив, когда телевидение снимало поселенцев, забрасывающих камнями израильских солдат. Но, когда история с Хевроном разрешилась, Бегун совсем сник, а через некоторое время и вовсе исчез. Его исчезновение породило много легенд. Одни утверждали, что человек, расстрелявший в мечети Хеврона десятки арабов и затем покончивший собой, вовсе никакой не Гольдштейн, а самый что ни на есть Иосиф Бедун. Другие уверяли, что Бедун вернулся в Москву, сбрил бороду, женился на простой русской женщине и торгует вместе с ней в ларьке под названием «Косоворотка от Диора».
После отъезда Пятиборского его друг Виль Пшеничников сделался выездным. Он то и дело появлялся в Лондоне, в Париже или в Брюсселе, где непременно навещал своих друзей и друзей своих друзей. Гостя из Москвы встречали радушно, одаривали щедро, расспрашивали жадно. И он рассказывал. О том, что кремлевские старцы дышат на ладан, а на смену им идут молодые реформаторы, «которых уже готовят на закрытых подмосковных дачах». Бедуна Пшеничников ругал последними словами: «Ему предлагали выездную визу при условии, что он тихо посидит полгода, но он отказался и схлопотал срок. Сам виноват, идиот!»
Скончался Пшеничников внезапно. В разгар народных волнений 1991 года он вдруг увидел по телевидению, как толпа осаждает Лубянскую площадь, пытаясь опрокинуть памятник Дзержинскому. Ему сделалось дурно, но, когда диктор объявил, что люди ринулись в здание КГБ и намерены добраться до архивов, Пшеничников вскочил, бросился к двери, но, сделав несколько шагов, упал замертво. На похоронах Пшеничникова было много людей. Один из них, назвавшись соседом покойного, произнес прочувствованную речь, которую закончил словами: «Ты ушел из жизни, дорогой Вильгельм Яковлевич, но дело твое будет жить вечно»
15. Алгебра войны
— Что-то ты, Михаил, сегодня отстаешь, Анастас, гляди, одну за другой тащит, а у тебя, — Булганин нагнулся, заглянул в ведро, — каких-то пять окуньков трепыхается.
— А кому тут еще трепыхаться? Москва, чай, не Волга, окромя окуней никого и не выудишь, — сердито отозвался Суслов, стоявший по щиколотку в воде.
— Иди ко мне, милая, иди, — Микоян, удивший с мостика, присел на корточки и стал осторожно тянуть леску, — карашо, карашо. Так, так.
Вдруг он резко дернул удилище, леска взвилась вверх, плоский, крупный окунь блеснул чешуйчатой спинкой.
— Ты что, Анастас, заговор знаешь? — Маленков подхватил удочку и пошел на мостик, чтобы пристроиться рядом с удачником.
— Любит меня рибка, любит, — Микоян не мог сдержать счастливой улыбки.
Каганович, который рыбачил только «за компанию», бросил удилище, подошел к Микояну, присел возле ведра с рыбой.
— Сколько там у него? — Молотов, обнажив волосатую грудь, удил, стоя по колено в воде. Рыба к нему не шла.
— Крупных с десяток, а так все мелкота.
— Ну что, если вместе собрать, на уху хватит. Может, пойдем? Пока дойдем, пока сварят, как раз обед, — предложил Молотов.
— Оно и верно, — Суслов вышел из воды, поправил соломенную шляпу, махнул охраннику.
Тот подбежал и вытянулся в струнку.
— Ты вот что, собери рыбу в одно ведро и неси прямо на кухню, — Суслов надел ботинки, расправил брюки и медленно направился в сторону дачи.
Микоян с сожалением отдал удочку кагэбэшнику и быстрым шагом догнал Суслова. Одолев небольшой подъем, они остановились, чтобы перевести дух и дождаться остальных. Собравшись вместе, члены Политбюро пересекли большую лужайку и направились к парадному входу.
Хрущев и Шепилов ждали на крыльце. Хрущев щурил глаза и широко улыбался. Микоян понял, что хозяин в хорошем расположении духа, ускорил шаг, чтоб первым доложить об удачной рыбалке, и уже раскрыл было рот, но Хрущев его опередил:
— К нам едет Насер.
Микоян оторопел, остановился, да так и остался стоять с раскрытым ртом. Хрущев, с удовольствием глядя на глупую физиономию Микояна, и вовсе разулыбался. Наконец, Микоян пришел в себя.
— Его что, свергли? Спрятаться хочет или помощи будет просить?
— Да нет, не свергли. Мне Тито письмо прислал. Пишет, что Насер очень перспективный товарищ для движения неприсоединения. Ты, значит, Никита Сергеевич, его поддержи, дай ему оружие и начни тот разговор, чтобы он Суэцкий канал национализировал. А я, значит, тебе подсоблю, — буду на Насера давить: раз ты к неприсоединившимся странам присоединился, давай, мол, действуй. Не гоже терпеть у себя пережитки колониализма!
Так вот, значит, мы тут с Шелепиным все обдумали и решили, надо с ним договор заключать.
Микоян продолжал стоять в дурацкой позе, лихорадочно соображая, шутит Хрущев или хочет его на чем-то зацепить.
— Но ведь он же — реакционная военщина, кровавый режим…
— А я, значит, так понимаю, что мы сами это выдумали и сами в это и поверили.
Тем временем подошли члены Президиума ЦК и сгрудились у входа. Хозяин жестом велел проходить. Все прошли в зал, ждали. Хрущев сел в кресло, отбросил соломенную шляпу, вытер со лба пот.
— Ты что, Анастас, не понимаешь, какой силой становятся нарождающиеся третьи страны, освобождающиеся, значит, от колониального гнета? Вот я Неру встречал. Он кто? Нейтралист. И позиция у него, значит, промежуточная между капиталистическим миром и социалистическим. С преобладанием симпатий к нашей политике. И Сукарно в Индонезии — тоже, значит, нейтралист. Если мы в эту компанию еще Насера засунем, чуешь, что мы получим? Суэцкий канал. А это главная морская критерия, тьфу, — артерия. Вот когда мы этот канал к рукам приберем, всех на колени поставим!
— Но у Англии и Франции с Египтом договор об аренде, они могут войну начать, — решился вставить Молотов, сильно обиженный, что не его, а Шелепина Хрущев выбрал в советники по такому важному вопросу.
— Не бойся, Вячеслав, не начнут. Мы ведь можем атомную бомбу ракетой хоть куда перебросить, хоть в Лондон, хоть в Чикаго. Кто против нас пойдет? Только самоубийцы. Верно я говорю, Анастас?
— Верно-то оно верно, только вот банки у них в Египте частные и экономика поглощена монополистическим капиталом. Их теперь капиталистической страной считать или как?
Хрущев наморщил лоб, задумался.
— Я так понимаю, раз власть у них опирается на диктатуру этого, значит, прогрессивного слоя, то и государство у них идет социалистическим путем. К примеру, они у нас оружие попросят. Мы дадим. И специалистов ихних возьмем в обучение. А те вернутся и будут еще более прогрессивными, чем нынешние. Так, значит, и получится, как учил Ленин, у каждой страны свой путь к социализму!
— Тут вот и другой вопрос возникает. Насер ведь коммунистов в тюрьмы сажает и целое государство задумал уничтожить. А мы…
— Ты что, Анастас, — Хрущев с презрением оглядел Микояна с ног до головы, — гнилой интеллигент? Боишься руки замарать? С Лазаря пример бери, он не боится.
Микоян побледнел, замотал головой.
— Не интеллигент я вовсе.
— То-то же! Ну что там, уха готова? — примирительно сказал Хрущев и направился в столовую.
Члены Президиума ЦК последовали за ним. Каганович шел первым.
16. Мусор в храме
К сорока годам у Вульфика Хмельницкого прорезался талант рассказчика. Правда, он и прежде частенько пускался в разговоры о том, как воевал в Пруссии, брал Кенигсберг, был ранен и провел три года в госпитале где-то на Урале. И хотя со временем рассказы его обрастали все новыми и новыми подробностями, было ясно — это из его жизни. Однако же, когда он переключился на истории, участником которых быть никак не мог, все решили — у Вульфика талант!
Рассказы его и в самом деле были удивительными и всегда начинались с того, как некто Вайль, Кенис или Померанц — непременно полуграмотный еврей из местечка — оказывался в Москве, являлся к главврачу психбольницы и предлагал ему открыть «цех». Конечно же, трикотажный цех! «Ви будете иметь себе лечебно-трудовой отдел, больные будут излечать себе трудом, я буду иметь себе кусочек хлеба и с маслом, а все вместе ми будем иметь еще кое-что», — талантливо пародировал Вульфик. Главврач — человек обязательно русский и обязательно неискушенный, — поначалу отказывался: «Я рад бы организовать у себя трудотерапию, но ведь надо закупить сырье, оборудование, наладить производство. Нет, это не для меня!» — «Послушайте сюда, доктор, — отвечал Вайль, Кенис или Померанц, — ну зачем вам думать за такие глупости? Пусть у меня болит голова за оборудование, за сырье и я знаю за что? За все! Ви будете себе руководить и получать — я знаю! — скромную зарплату».