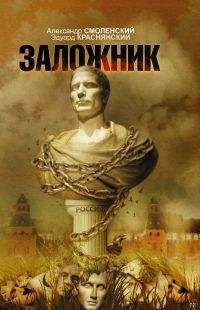Эйтан Финкельштейн - Пастухи фараона
— Не джентльмены мы, а плотники! — пропел хозяин и театральным жестом стянул с Киры заснеженную шубку.
— Киронька, милая, пошли сразу в ванную.
Пока хозяйка уводила гостью, а Пятиборский устраивал Кирину шубку, Натан протер носовым платком лицо, открыл портфель, достал из него бутылку.
— Новая квартира — новая водяра!
— Пшеничная? Не пивали, только слыхали. Говорят, отличная. Где растет?
— Во саду-ли, в огороде.
— Ну, пойдем, дорогой, посмотришь апартаменты.
Показ крохотной квартирки не занял и пяти минут.
Саша усадил Тоника в гостиной, достал две рюмки, но только принялся разливать, раздался звонок.
— Наливай, может, успеем, пока бабы в ванной, — бросил Пятиборский и направился в коридор.
— Приветствуем, приветствуем. Как добрались?
— С божьей помощью, — крупный мужчина с широкой окладистой бородой снял поношенное черное пальто, причесал вьющуюся шевелюру, вынул из-за пазухи завернутую в целлофан гвоздику. — А где наша несравненная Жанна Павловна?
— Ого, гвоздика в ноябре! Да Жанка описается от счастья. Ну-с, пройдемте, сэр.
Слово «сэр» вырвалось у Пятиборского скорее всего от смущения. Как теперь называть Меерсона-Менделеева? Привычное «Антоша» уже не годилось — Меерсон-Менделеев недавно был рукоположен в священники. «Антон Моисеевич» звучало смешно, «Отец Антоний» — язык не поворачивался.
Пятиборский провел Меерсона-Менделеева в гостиную, достал третью рюмку.
— С Богом, и не последнюю!
— Ну, конечно, им уже невтерпеж! Чтоб всех дождаться — этого мы не можем! — подкрашенные и надушенные, из ванной выплыли дамы.
— Не удовольствия ради, пробу снимаем — вдруг несъедобно! — ответил на выпад жены Пятиборский.
Меерсон-Менделеев поднялся с кресла, галантным жестом протянул Жанне гвоздику, поцеловал руку Кире. Дамы зарделись, кокетливо отказались от водки, потребовали вина. Хозяин потянулся к бутылке портвейна, но тут раздался звонок в дверь.
— Тоник, поухаживай за дамами, — Пятиборский протянул Натану бутылку и поспешил встречать новых гостей.
— Мать-перемать, ты что, сучий отрок, натворил с погодой, харя твоя жидовская-пережидовская? — громом понеслось из прихожей.
— Подумаешь! Мы вот блокаду пережили, а они снежка испугались!
— Блокаду они пережили! В Ташкенте небось отсиживались. Знаем мы вашу нацию! — Высоченный — под два метра — мужчина вытирал платком большой мясистый нос и узкие, чуть раскосые глаза-щелочки.
— Мариша, давай сразу в ванную, — выскочила в коридор хозяйка, — а ты, Виля, пожалуйста, не ругайся, у нас церковнослужитель. Вот предаст тебя анафеме!
В ответ Виль Пшеничников протянул свои длиннющие руки, сгреб хозяйку, прижал ее к себе. Жанна завизжала, вырвалась и вместе с Маришей исчезла в ванной.
— Слушай, — Пшеничников выпрямился, поднял руку, провел ладонью по потолку, — и это квартира? А я думаю — склеп.
— Вам, западникам, только бы охаять все наше, советское. Ну ладно, пошли, согреемся.
Друзья прошли в гостиную, Пятиборский, торопясь, наполнил рюмки.
— С новосельицем!
В дверь снова позвонили.
— Шолом-алейхем! Ну и холод у вас в России! — Плотный, невысокий молодой человек со светло-каштановой бородой протирал запотевшие очки.
— А у вас, в Палестине, арабов линчуют, — парировал хозяин.
Гость растерянно улыбнулся, стащил с себя берет, достал из кармана маленькую вязаную шапочку, надел ее на макушку.
— Это что, нынче так носят? — искренне удивился хозяин.
— Так, милый мой, носят две тысячи лет. — Иосиф Бедун оглядел прихожую. — За какие заслуги отдельные хоромы дают?
— Не имей сто друзей — имей дядю Осю в Лондоне.
— В нашем народе всякий, если захочет, дядю за кордоном отыщет, да не изо всякого дяди столько фунтов выжмешь, чтоб на квартиру хватило.
— Это уж точно, — гость и хозяин направились в гостиную.
У двери в ванную комнату Пятиборский остановился, постучал.
— Жаннуля, давай быстрей, возможен голодный бунт.
— Потерпите, оглоеды, — отозвалась хозяйка, но уже через несколько минут выскочила из ванной и, постукивая каблучками, принялась таскать в гостиную миски и тарелки.
За столом было тесно, шумно, весело. Первый бокал подняли за новоселье, потом за хозяйку, потом за присутствующих, потом за отсутствующих, потом…
— Мужчины, вы сыты? Можно убирать? Ставить чай?
Стол одобрительно загудел; дамы поднялись помочь хозяйке. Под шумок исчез и Пшеничников, но через минуту он вернулся с большим свертком и торжественно протянул его Пятиборскому.
— Хоть ты и жидовская морда, так и быть, получай!
Пятиборский развернул сверток.
— Ну и ну, Виля! Не верил, честное слово не верил. «Русская икона»! А печать-то какая! В цековской типографии небось делали?
— Выше бери, в Вене.
— «Икону»? В Вене? — гости осторожно передавали друг другу альбом, щупали бумагу, гладили репродукции. — Как прикажете такое понимать?
— А что у нас нынче на дворе? Оттепель. Слово такое слыхали?
— Слыхать — слыхали, видать — не видали.
— Поздравляю, Виля. Скажи, как пробил?
— По правилам надо играть, ребята, — загадочно улыбнулся Пшеничников. — Вы все по старинке мыслите и того не замечаете, что в партию пришли новые люди. Они хотят изменить ее изнутри. Вот с ними-то и надо играть в одну игру!
— Скажите, миряне, где такое продается? — Меерсон-Менделеев не мог оторвать взгляда от иконы Иоанна Златоуста.
— Всюду продается. Только за доллары.
— Как это — за доллары?
— А это, батенька, тоже часть игры. «Наш человек» сразу меня предупредил: чтобы пробить «Икону», нужно доказать «где надо», что она будет продаваться за границей и принесет казне валюту. Тогда дело пойдет.
— Так если это людям недоступно, зачем оно? — пожал плечами отец Антоний.
— Кому недоступно, мужику? Да ему лишь бы водяра была доступна. Вот скажи, Тоник, чем там у вас в Истре земляные люди больше интересуются, искусством или самогоном?
— Про земляных людей не знаю, а вот земляные писатели у нас в почете — журналы за ними гоняются, критика возносит их до небес. Я вот со своим «Путешествием в страну рукописей» все редакции обегал, и везде от ворот поворот. С «Колоколом» куда ни сунусь, все морщатся — какое, мол, отношение это имеет к русской культуре? Так что, Виля, для кого оттепель, а для кого…
— Нет, дорогой, не понимаешь ты правил игры. С твоей фамилией ничего печатать не будут, это ежу ясно. Папаша-то у нас кто был, за что сидел? За еврейский национализм! Так что все правильно, не на кого обижаться.
— Да и у вас, — язвительно заметил Тоник, — папаша тоже фамилией не вышел.
— Правильно, папаша наш значился как Вайцкорн, но мы-то пишемся Пшеничников. Потому и печатаемся. Надо было и тебе «Путешествие» под псевдонимом пустить.
— Ну возьмет он себе псевдоним, ну напечатают его, — вступил Бедун, — а что изменится? Ведь сказано: «По морде бей, не по паспорту». Так что, ребята, антисемитизм вечен, хоть вы сто раз фамилии меняйте.
— Не знаю, где такое сказано, — глаза отца Антония заблестели, борода затряслась, — у нас, под сводами православного храма, звучит слово Апостола: «Несть ни эллина, ни иудея».
— Оно, конечно, пополнить недостаток русскости православием дело не хитрое, — заметил Пятиборский, — только ведь есть сермяжная правда в том, что любой деревенщик ближе русской культуре, чем наш друг Тоник. Ну не может еврей целиком войти в эту культуру, не может! Тут хоть три креста надень, а органически русская культура все равно останется чуждой нашей космополитической натуре.
— Да, да, — Тоник почесал в затылке, — и мне сдается, что все это больше отдает бегством от Кесаря, чем стремлением к Богу. И куда бежим? Туда, где еврея всегда считали исконным и вечным врагом? Не так ли, Антон Моисеевич?
— Сошлюсь на слова Его: «Любите врагов ваших», понимать которые надо так, что у нас только одно средство борьбы — любовь. А любовь наша христианская активна, плодоносна и бескорыстно стремится к благу ближнего. — Меерсон-Менделеев устремил взгляд к потолку. — В чем же еще благо еврейского народа, как не в обращении к Христу?
— Но согласитесь, сэр, православная церковь — атрибут национальный. Как же в ней будет чувствовать себя еврей, который в русской истории сидит какую сотню лет? Для него ведь что Иван Грозный, что император Токугава.
— Да о чем вообще разговор, — возмутился Бедун, — у нас что, своей культуры нет? А кто дал миру Библию, Эйнштейна и Маркса? Надо бороться за возрождение нашей культуры, а не менять ее на русскую. Это ведь все равно, что поменять первородство на чечевичную похлебку!
— Бог с вами, кто же требует от культуры отказываться? Идеалом православия является еврейский народ как еврейская православная церковь. Подумаем, что означают слова Апостола «Весь Израиль спасется»? А то, что народ Израилев откажется от ненависти к Христу и станет особой церковью божьей, церковью апостола Иакова, венчающего Православие!