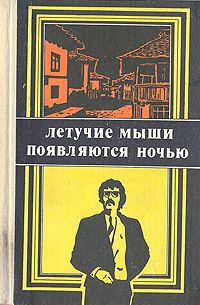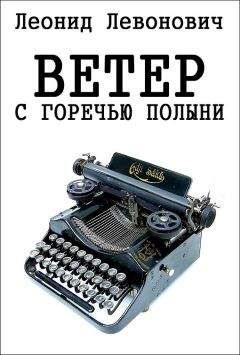Анатолий Байбородин - Не родит сокола сова
Старуха горько пожалела, что втянулась в пустобайство, что треплет суесловно Слово Божие, будто пустосвятка прицерковная, и боялась: оморочит ее Гоша пучьими словесами, как тенётами, потому что верила по-детски и… оборони Бог!.. не пытала веру студенным умом и сомнением, бессознательно чуя: рухнет вера под напором лукавого мышления, как нежная запруда под натиском шалого половодья. Не ведала азы и буки, не читала Священного Писания, но, крещённая по рождению, полвека… потом комиссары церкву закрыли, а батюшку угнали в каторгу… молилась в церкви Спасу, Божией Матери, ангелам, архангелам, серафимам и святым угодничкам, исповедаясь и причащаясь, ревниво блюдя посты, постные дни, и на службах внимала батюшке не слухом лишь, а всей душой, воспаряющей горняя, – и скорбеющей о своих грехах, молящей спасения, и славящей Отца Небесного. Душой и разумением своим одолела Евангелие Христово… вот, разве что, и душой, и памятью не осилила Ветхого Завета, заблудилась в долгих еврейских родах. А потом, года за два до смерти, богоданный Калистрат, на старости лет совсем обезноживший… с ботажком едва по избе перебирался… после вечорошней молитвы вслух читал Евангелие и, в свое время четыре зимы отбегавший в церковно-приходскую школу, даже толковал Нагорную проповедь.
Но вот теперь, когда Гоша обозвал Спасителя чуть ли не «жидом», она разумением своим понимала, что у Бога нет нации, Он лишь воплотился в богоизбранном еврейском народе, христолюбивые сыны которого, внемля святым словесам пророков своих, ждали Мессию; но когда явился Христос и учил, многие из народа израилева, искушенные дьяволом с его золотым тельцом, не приняли Христа и ревели Пилату, чисто коммунисты на маевках: «Распни Его на кресте!..» Чуяла все это бабка Маланья, но не умела толковать словами, да и не шибко и хотела, а посему отговорилась так-сяк:
— Оно, конечно, еврей еврею рознь. Есть и добрые, которые не жиды… Одни Христа ждали, другие своих пророков побивали…
— О!.. – Гоша победно вознес кверху палец. – Как во всяком народе, и таких и сяких вдосталь… Дак вот, те, которые кулачили да ваших попов разгоняли, те за бедных горой и стояли. По царским тюрьмам да каторгам страдали, потом за русский народ от белой сволочи муки да погибель принимали… Чтоб мы счас жили, не тужили.
3
Старухе обрыдло Гошино блядословие, и чтоб осадить того, увести разговор в сторону, спросила: мол, Силу Анфиногеныча-то поминаешь.
— Поминать, как он, кровопивец, над матухой изгалялся?.. Я подрос-то, своротил тятьке санки набок, — с тихим и радостным злорадством припомнил Гоша.— От тоже семейско отродье, а!
Бабушке Маланье чесалось высказать ему сгоряча: да какой к лешему твой тятя семейское отродье, коль еще в парнях шатнулся от родовы, да и та отбилась от коренной семейщины, в скрытники пошла; а потом, опять же молвить, и какой он тебе тятька, ежели мамка тебя, Хуцана, прижила от проезжего молодца, — хотела это старуха выговорить в сердцах, но, видимо, посовестилась, придержала язык за зубами.
— А тятькиных братовьев, этих скрытников клятых… Ипата с Харитоном… за хохол да рылом об стол. Все-ех к стенке поставил мой…— он чуть было не ляпнул: тятя, но поправился — комиссар Самуил Моисеич.
— А почо отца-то ихнего забрали, Анфиногена старого? Чо он вам худого содеял, свята душа на костылях…
— Свят да больно лохмат. Народ булгачил…
— Деда своего, Хуцан, не пожалел…
— Да-а… – скривился Гошка, — я их родову сроду за родню не почитал… Дед Анфиноген-то был ишо та птица… Громше всех ревел про анчихриста со звездой во лбу. «Этого в перву голову, чтоб народ не сомущал», — велел Самуил Моисеич… О, мужик, дак мужик был — Лейбман-Байкальский! — Гоша загнул над столом толстый палец, и чуть не проболтался, что на сыновьих радостях хотел было поменять фамилию с Рыжакова на Лейбмана — имел на то кровное право, и теперь величался бы Георгий Самуилыч Лейбман, а может, и — Лейбман-Байкальский, но бывший катаржанец отговорил наблуженного сынка менять жеребца на переправе.
4
Многие в Еравне путем и не ведали, что за птица Самуил Лейбман… позже стал зваться: Лейбман-Байкальский, а потом с неведомого перепугу и вовсе Львом Байкальским… не ведали, что это за ворон, кружащий над приозерными селами и деревенями, зыркая добычу черным оком, и не знали, какого он роду и племени и кому молится, лишь старики баяли, что родом он, нехристь, с чужедальних Могилевких краев, но в тутошних степях и лесах уже рыскал, в каторге царской кайлом махал, в Укыре на поселении жил; а уж во пору великой порухи и каинова братоубийства высоко над народом кружил, чисто ворон, зрящий падаль; и по желтой степи, по синеватым гольцам и таежным урманам вилась ославушка, как похаживал в галифе багрецовом, в кожане с ремнями, как помахивал вороненым револьвертом да потряхивал крепких хозяев — кулаков, сказать; и зорил православный народишко, не давая потачки ни рассейским, ни семейским, а уж казачков, тех изводил под корень, как они есть — охальная контра и заплот царя-душегубца. А уж как извел, пустил по миру крепкого мужика, так и уездный собор своротил… не церковь была, лебедь белая… и ведь столь пособников среди мужичья нашлось, прости им Господи. Ежли бы не слетелись пособники, навроде Гоши Хуцана, чего бы один-то утварил?! А пособников сгуртился легион…
Но и на старуху бывает проруха, — и на ворона управа сыскалась: Сталин объявил Льва Байкальского злейшим врагом народа, в чем народ и не сомневался, — и упек сердечного, таракана запечного, в кутузку, а после сунул в зубы кайло каторжанское и велел земелюшку грызть на севере… Поговаривали, что Гоша Хуцан с перепугу сдал своего батьку единокровного вместе с потрохами, нагородил три короба и маленьку тележку, что было, а чего и быть не могло. Крепко подфартило Самуилу Моисеевичу: и царской каторги хлебнул, и сталинскую испробовал, да там и загинул навек. Хлопнули, поди, врага народа, в распыл пустили, чем тот раньше и сам промышлял. «Любил бороды драть, люби и свою подставлять, – рассудили деревенские мужики, – Оно ведь и комары кусают до поры…» Гоша Хуцан, в лихое время чуть было не поменявший фамилию с Рыжакова на Лейбмана, тут облегченно перекрестился про себя. Пронесло…
А потом новый загиб приспел, хрущевский, и вышло, что Самуил Лейбман безвинно страдал, горемышный… от своего же прижима; и опять в герои попал — самое бы время кумачовы штаны оболокчи да револьверт на пузо привесить. Опять на коне, опять над народишком можно галиться, да вот беда-бединушка, не дожил до светлого часа, упокоился бедный стрелок в мерзлой магаданской земле. Спохватился было Гоша Хуцан, снова надумал сменить фамилию, природнится с Лейбмановой родовой… так уж чесалось в евреях походить – богато живут, черти… но те, прознав, как внебрачный сынок оговорил их славного отца, дали ему такой отворот поворот, что больше Гоша к ним в родню не совался. Отбили охотку, пришлось русским маяться весь век.
А по-первости… от беса – крестом, от свиньи – пестом, от Самуила Лейбмана ничем не откреститься, не отбиться. При его крутом правеже, когда кулачили здешних мужиков, пострадал и Ванюшкин дед, Калистрат Краснобаев вместе со своей Маланьей… все подчистую отняли… и лишь чудом мужик избежал выселки. А Гоша Хуцан… одна родова… бегал у Лейбмана в подсобниках, что Краснобаевы, лишенные скота, дома-пятистенка, амбаров, завозен, молотилки, сеялки, конечно же, не могли Гоше простить, хотя со временем, вроде, смирились, да еще и родней стали. А тут война, в горе, в ненависти к чуженину-разорителю и погубителю побратавшая народ, притопила недавние раздоры и обиды.
5
— Эти семейские,— продолжал пьяно ругаться Гоша,— да особливо скрытники, такая, паря, контра оказались… У их в тайге, по заимкам сволочь белая и пряталась. Тех же бандитов, взять… кулачье недобитое!.. тоже по займишам таились, волчары. Оттуда и на разбой ходили. Но мы им дали укорот, отстояли нашу рабочую волю.
Гоша свое талдычит, бабушка Маланья свое толкует, выстраданное, вымоленное:
— Вольному воля, спасенному – рай. Так от… Воля… Отбились вы от Бога, растеряли, раструсили, вот и осталась у душе пустота, куда и закочевал сатана. А как прижился, так и сомустил вас волей, худобожиих… За волю они взялись… девти блудливые. Вольные стали, – живете, как пауки у банке…С греха сгорите со своей волей, перебъетесь, перепластаетесь. Раз уж Бога не любите и ближнего своего… А деды наши знали как жить…
— Вот и жили в навозе по уши…
— Жили просто, да лет по сто, а теперичи по пятьдесять, да и то на собачью стать… Ну все, Гоша, посидел, выпил, пора и честь знать!
Старуха осерчала на себя, что всуе перед Гошей Хуцаном имячко Божие трепала… не мечите бисер перед свиньями… и чуть ли не взашей стала выпихивать Гошу из избы. Тем более, в горнице внучка заревела лихоматом, – нямкать просит, надо хлебушек с молочком мять, да в рот ей тюрю совать.