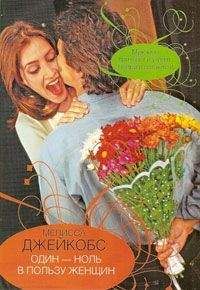Стефан Цвейг - Встречи с людьми, городами, книгами
Я не сразу его понял. Я решил, что Джованни получил письмо на иностранном языке, немецком или французском, письмо от девушки — такой парень не мог не нравиться девушкам — и хочет, чтобы я перевел ему на итальянский это нежное послание. Но письмо было написано по-итальянски. Так чего же он хочет? Чтобы я узнал, о чем ему пишут? Да нет же, возразил Джованни почти сердито, чтобы я прочел ему письмо, прочел вслух. И тут я все понял: этот красивый, умный, обладающий и врожденным тактом, и подлинной грацией юноша входил в те установленные статистикой семь или восемь процентов итальянской нации, которые не умеют читать. Он был неграмотный! Я не мог припомнить, чтобы мне когда-нибудь случалось беседовать с представителем этого вымирающего в Европе племени. Джованни был первый неграмотный европеец, который мне встретился, и я, вероятно, посмотрел на него с искренним удивлением — уже не как на друга или товарища, а как на музейный экспонат. Письмо я ему, разумеется, прочел, письмо от какой-то швеи, не то Марии, не то Каролины, где было написано то, что пишут девушки таким парням в любой стране мира на любом языке. Он пристально следил за движением моих губ, и я заметил, как он силится запомнить каждое слово. На лбу у него даже обозначились морщины, так исказило его лицо напряженное внимание, усилие все точно запомнить. Я два раза прочел письмо, медленно, внятно; он впитывал каждое слово, глаза у него засияли, а рот заалел, как расцветшая красная роза. Но тут подошел один из офицеров, и мой Джованни исчез.
Вот и все, вся история. Но, собственно, прозрение началось для меня позже. Я лежал в шезлонге и любовался южной ночью. Мое удивительное открытие не давало мне покоя. Я впервые встретил неграмотного, и не кого-нибудь, а европейца, и притом, на мой взгляд, весьма неглупого, с которым я разговаривал, как с равным, и меня чрезвычайно занимала, даже мучила мысль о том, как может отражаться мир в этом загражденном для письменности мозгу.
Я пытался представить себе, что это значит — не уметь читать, я пытался вообразить себя на месте этого человека. Вот он берет газету — и ничего в ней не понимает. Вот он берет книгу и взвешивает ее на руке — чуть полегче, чем кусок дерева или железа, четырехугольная, пестрая ненужная вещь — и он снова откладывает ее, не зная, что с ней делать. Вот он останавливается перед книжным магазином — и все эти красивые, пестрые, желтые, зеленые, красные, белые прямоугольники с золотым тиснением на корешке для него все равно что бутафорские фрукты или запечатанные флаконы духов, не пропускающие запаха. Вот при нем называют священные имена Гете, Данте, Шелли, а они ничего не говорят его сердцу, для него это звук пустой, бессмысленное сочетание слогов. Он не ведает, бедняга, сколько наслаждения внезапно дарит человеку одна-единственная строка, сверкнувшая, будто серебряный месяц из-за темных туч, он не ведает глубоких потрясений, когда в тебе начинает жить чужая, выдуманная судьба. Он замурован в самом себе, ибо не знает книги, он влачит тупое существование троглодита, и нельзя понять, как он, отторгнутый от мира, выносит эту жизнь и не задохнется от собственной скудости. Как можно жить, не зная ничего иного, кроме того, что случайно увидел глаз или услышало ухо, как можно дышать без дуновения мира, который струится из книг? Я все усерднее пытался представить себе положение не умеющего читать, отрезанного от духовного мира, я пытался искусственно воссоздать его образ жизни, как ученый по одной свае пытается реконструировать существование брахеоцефала или неандертальца. Но я не мог проникнуть в мозг такого человека, постичь склад мыслей европейца, который за всю свою жизнь не прочел ни одной книги, как не может глухой постичь волшебную силу музыки по описаниям.
Так и не сумев проникнуть во внутренний мир неграмотного, я попытался облегчить себе задачу — вообразить без книг свою собственную жизнь. Для начала я попытался на какой-то срок исключить из своей жизни все, что я узнал посредством письменности и прежде всего из книг. И с первых же шагов потерпел неудачу. Ибо то, что я привык сознавать как мое собственное «я», полностью распадалось при первой же попытке изъять из него знания, опыт, дар проникновения в чужие чувства, чувство человеческой общности и собственного достоинства — словом, все то, что я приобрел благодаря книгам и образованию. За каждым предметом, за каждым событием тянулись воспоминания и наблюдения, почерпнутые из книг, каждое отдельное слово вызывало в памяти бесконечную цепь ассоциаций из прочитанного и выученного. Стоило мне, к примеру, вспомнить, что я еду в Алжир и Тунис, как вокруг слова «Алжир», даже помимо моей воли, с быстротою молнии, словно кристаллы, вырастали сотни ассоциаций: Карфаген, культ Ваала, Саламбо, строки из Тита Ливия, повествующие о сражении под Замой, где встретились пунийцы и римляне, войска Сципиона и войска Ганнибала — и та же самая сцена в драматическом фрагменте Грильпарцера; сюда же врывалось многоцветное полотно Делакруа и флоберовское описание природы; и то, что Сервантес был ранен именно при штурме Алжира войсками Карла V; и тысячи других подробностей по волшебству оживали, едва лишь я произносил вслух или даже про себя слова «Алжир» и «Тунис»; два тысячелетия войн, история средних веков — несть числа картинам, всплывающим в памяти; все, что ни выучил, все, что ни прочел за свою жизнь, послужило к волшебному обогащению одного, случайно всплывшего слова.
И я понял, что милость или дар мыслить широко и свободно, со множеством разветвлений, что этот великолепный, единственно верный способ видеть мир не с одной, а со многих сторон дается в удел лишь тому, кто сверх собственного опыта впитал опыт многих стран, народов и времен, собранный и хранимый книгами, и я ужаснулся тому, каким ограниченным должен казаться мир человеку, лишенному книг. Но и самой своей способностью все это продумать и так остро почувствовать, сколь убог бедный Джованни без высокой радости мироприятия, этим неповторимым даром потрясаться чужими, случайными судьбами — не обязан ли я своей близости к книге? Ибо что делаем мы читая, как не живем жизнью чужих людей, смотрим на мир их глазами, мыслим их мозгом? И одно это благодатное и одухотворенное мгновение наполнило меня горячей признательностью при мысли о неисчислимых мигах счастья, дарованных мне книгами; пример за примером всплывал из глубин памяти; они роились, словно звезды над моей головой, я вспоминал те случаи, которые исторгали мою жизнь из узости неведения, учили меня истинным ценностям и посылали мне, маленькому мальчику, опыт и знания, во многом превосходившие мои тогда еще ничтожные физические силы. Именно потому — теперь, я понял это — у ребенка сказочно ширилась душа, когда он читал жизнеописания Плутарха, о приключениях мичмана Изи или о подвигах Кожаного чулка, ибо вместе с ними в стены городской квартиры врывался мир необузданных страстей и одновременно уносил меня из этих четырех стен; книги впервые показали мне беспредельность нашего мира и блаженство погружения в него. Большую часть наших душевных движений, желание раздвинуть границы своего «я», лучшую часть нашего существа, всю эту священную жажду даровала нам соль книг, понуждающая нас снова и снова испить свежих впечатлений. Я вспоминал знаменательные решения, принятые благодаря книгам, встречи с давно умершими писателями, порою более для меня важные, чем встреча с женщиной или другом, ночи любви, проведенные с книгами, когда забываешь о сне ради высокого блаженства; и чем больше я думал, тем больше приходил к убеждению, что наш духовный мир складывается, как из миллионов монад, из отдельных впечатлений, коих наименьшую часть составляет лично увиденное и пережитое, а всем прочим — основной массой — мы обязаны книгам, прочитанному, воспринятому, изученному.
Чудесно было продумать это. Снова припомнились забытые мгновения счастья, изведанные благодаря книгам; одно влекло за собой другое, и, как при попытке сосчитать звезды на черном бархате неба, все время, сбивая меня со счета, возникали новые, так и при попытке заглянуть в свою внутреннюю сферу я понял, что это наше звездное небо тоже озарено бесчисленным множеством огней и что мы, сподобленные радостей духовных, обладаем второй вселенной, которая в сиянии вращается вокруг нас под звуки таинственной музыки. Никогда еще книги не были мне так близки, как в тот час, когда я не держал в руках ни одной, а только думал о них, но думал со всей признательностью прозревшей души. Благодаря ничтожному случаю — встрече с неграмотным человеком, с несчастным евнухом духа, созданным таким же, как мы, но из-за этого единственного изъяна лишенным способности вторгаться, любя и созидая, в высший из миров, — я почувствовал всю магию книг, которая ежечасно открывает глубины вселенной каждому, кто способен прочесть их.
Но тот, кто однажды познал цену написанного и напечатанного, цену духовного общения посредством слова во всей его неизмеримой глубине — способствовала ли этому познанию одна книга или вся совокупность их, — тот лишь улыбнется сострадательно, видя малодушие, охватившее сегодня многих даже умных людей. Время книг миновало, теперь слово принадлежит технике, сокрушаются они; граммофон, кинематограф, радио, как более искусные и удобные передатчики слова и мысли, уже вытесняют книгу, и скоро ее культурно-историческая миссия отойдет в прошлое. Какой узкий взгляд, какая куцая мысль! Ибо где и когда технике удалось совершить хоть одно чудо, которое превзошло бы или хоть сравнялось с чудом, явленным нам тысячу лет назад в книге? Химия не изобрела взрывчатого вещества, которое могло бы так потрясти весь мир; нет такой стали, такого железобетона, который превзошел бы долговечностью эту маленькую стопку покрытой печатными знаками бумаги. Ни одному источнику энергии не удалось еще создать такого света, который исходит порой от маленького томика, и никогда электрический ток не будет обладать такой силой, которой обладает электричество, заложенное в печатном слове. Нестареющая и несокрушимая, неподвластная времени, самая концентрированная сила, в самой насыщенной и многообразной форме — вот что такое книга; так ей ли бояться техники и как, если не с помощью тех же книг, техника совершенствуется и распространяется? Повсюду, не только в нашей личной жизни, книга есть альфа и омега всякого знания, начало начал каждой науки. И чем тесней ты связан с книгой, тем глубже открывается тебе жизнь, ибо благодаря ее чудесной помощи твой собственный взор сливается с внутренним взором бесчисленного множества людей, и, любя ее, ты созерцаешь и проникаешь мир во стократ полней и глубже.