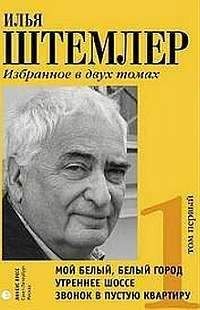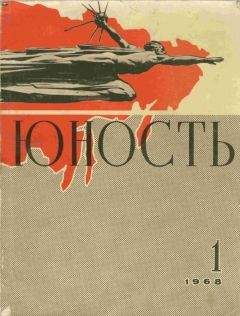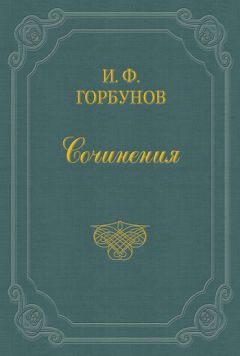Илья Штемлер - Сезон дождей
– О, бля! – вскричал Моженов. – Уважаю! За ноту до будем пить коньяк! – и раскрыл футляр.
Достал плоскую флягу – как она помещалась в тесном футляре, непонятно. Тем же жестом фокусника Моженов извлек из футляра несколько конфет «Тузик» и горсть арахисовых орешков.
– Профессионал! – восхитился Рунич. – Наш человек!
– Рунич! – произнес Моженов, скручивая заглушку фляги. – Я тебе, пожалуй, в ухо дам.
– За что, Левушка? – игриво округлил глаза Рунич.
– Ты пошто, смерд, обидел Евсея? – Моженов поудобней расставил рюмки. – Встретились мы на Невском, тот чуть не плачет. Обидел, мол, меня Рунич, света белого не вижу.
– Как же, как же. Его обидишь! – Рунич даже приподнялся от негодования. – Севка такое загнул с амвона на факультетском семинаре. Пусть еще мне спасибо скажет, мудак!
– Что же он такое сказал? – Моженов плеснул коньяк в первую рюмку.
Рунич вернул на стул тощий зад, обтянутый блекло-синими заморскими штанами под названием джинсы. Мало кто имел тогда такие штаны, жесткие, точно дерюги.
– На тот семинар явились из райкома комсомола, из обкома. Только пленум ЦК провели по идеологии, все на ушах стоят. И этот со своими символистами-футуристами, откуда он их повытаскивал. Бенедикта Лившица, братьев Бурлюков, Крученых и еще кого-то из антисоветчиков, – Рунич приподнял острые плечи и походил на крупную птицу. – Погоди, схватят еще Севку за его пейсы, доиграется, диссидент хренов.
– Какие же они антисоветчики, символисты-футуристы. Веселые ребята. В наше время наверняка бы лабухами стали. Бенедикт Лившиц на саксе бы лабал, а Крученых на ударных. В ансамбле «Полутораглазый стрелец».
– Какой стрелец? – спросил Рунич.
– Ты и не слышал? Так назывался автобиографический роман Бенедикта Лившица. «Полутораглазый стрелец». – Моженов усмехнулся и посмотрел на Рунича. – Ну а ты что?
– Я и выступил, постарался сгладить. Может и резковато. Хорошо еще, если все так и останется, в стенах института, не выползет кое-куда. Иначе не видеть Евсею диплома, в лучшем случае.
– А в худшем? – вопросила Наталья.
Ее безучастная поза никак не предполагала какую-то заинтересованность в разговоре и вдруг.
– А в худшем, известное дело, – вздохнул Рунич. – С истфака двоих замели.
– Так в чем же вина этого Евсея вашего? – допытывалась Наталья. – Ну помянул он футуристов. Между прочим, я посещала лекции в Русском музее по искусству. Нам рассказывали и о Бурлюке, и о Врубеле, он тоже к символистам примыкал. Что особенного? – Наталья умолкла, поймав взгляд Моженова поверх своей головы.
Наталья обернулась. За ее спиной стоял молодой человек в какой-то яркой широкополой шляпе. Тонкие усы окаймляли крупный рот, доходя до подбородка. Карие чуть раскосые глаза дерзко смотрели под красиво изогнутыми черными бровями. Длинноватый нос придавал выражению лица молодого человека смешливость и независимость.
– Евсей?! – воскликнул Моженов. – Мы только сейчас тебя вспоминали. Познакомься, Сева. Девочки Зоя и.
– Наталья, – опередила Наталья и протянула руку.
– Евсей Дубровский. Сева, – представился молодой человек, мягко взглянув в глаза Натальи и, улыбнувшись, подал руку Зое. – А вы, значит, Зоя. Очень приятно. Такими вот Зои и бывают.
– Какими такими? – засмеялась Зоя.
– Такими милыми и домашними, – ответил Евсей. – Мы наверняка с вами подружимся.
– А со мной? – кокетливо спросила Наталья.
– С вами? На вас я женюсь.
После вечера в клубе Дома культуры пищевиков минуло недели две. И сегодня, в пирожковой на Невском вблизи улицы Желябова, в свой обеденный перерыв Наталья и Зоя, как обычно, обменявшись новостями, самое сокровенное придержали для душевной беседы за круглым столиком пирожковой.
Накануне прошел особый день: Евсей приглашал Наталью домой, знакомить со своими родителями.
– А что на тебе было? – Зоя вернула на стол горячий бульон. – Ты не торопись, мне все интересно.
– Что было? Голубое платье с белыми оборками. Ну, ты знаешь.
– Шифоновое? Что тебе привез отец из Польши?
– Ага, – кивнула Наталья.
– Так оно же тебе широковатое в талии.
– Здрасьте. А кто мне его ушивал? – Наталья вскинула брови. – Сама и ушивала.
– Ах да, – засмеялась Зоя. – Я и забыла. Когда это было… А туфли? Те самые, с перепонками?
– Слушай, тебя интересует всякая ерунда. Так я не успею все рассказать.
– Ладно, ладно. Это не ерунда, это первое впечатление, – смирилась Зоя. – Мне все интересно.
– Я выглядела неплохо.
– Ты всегда выглядишь лучше всех! – искренне воскликнула Зоя. – Ладно, давай о главном. Где они живут?
– На Петроградской, улицу я не запомнила, мы ехали на трамвае, где-то у зоопарка.
– Хорошая квартира?
– Коммуналка. Огромная. На восемь семей. Как вокзал. У них две комнаты. Одна родительская, вторая – Евсейки. Вспомнила, они живут на Введенской!
Семья Дубровских – отец, Наум Самуилович, мать, Антонина Николаевна, и сын Евсей, студент литературного факультета пединститута – жили на улице Олега Кошевого, или по-старому Введенской, в доме № 19. В двух комнатах, в самом конце длинной коридорной кишки, рядом с общей кухней. И запахи от стряпни, что готовили все восемь семейств соседей, перво-наперво проникали в комнаты Дубровских. Зимой еще куда ни шло, а летом, особенно в безветренную погоду, когда жара заставляла распахивать двери, то вместе с шумом от снующих по коридору соседей – а их, в общей сложности, проживало тридцать два человека – комнаты наполняли запахи.
Особое негодование вызывала стряпня вагоновожатой Гали, которая занимала со своими четырьмя хулиганистыми пацанами комнату в начале коридора, у самого туалета. Галя часто варила студень. Из чего она варила тот студень, непонятно, только стойкая пронзительная вонь казалась не просто запахом, а материальной субстанцией, которая и после готовки еще долго держалась в коридоре, вызывая ропот соседей. На что горластая вагоновожатая предлагала особо недовольным переселиться в ее комнату, смежную с туалетом.
И сегодня, когда Евсей собирался познакомить родителей со своей будущей женой, вагоновожатая Галя, как нарочно, затеяла варить свой студень.
– Наум, что делать? – беспокоилась Антонина Николаевна. – Девочка впервые войдет в дом, что она подумает?
– А что же делать? – обескуражено отвечал Наум Самуилович. – Я так боялся этого, и на тебе. Из чего она варит студень – из дохлых кошек?
– Главное, чтобы Севка провел девочку через коридор. А там я вылью на пол одеколон, перебью запах.
– «Главное», – усмехнулся Наум Самуилович. – Коридор длиннее взлетной полосы аэропорта. Надо было познакомиться с девочкой рядом, в зоопарке, там воздух поприличней.
– В зоопарке? Как будто у мальчика нет дома, как будто мальчик сирота. И кто знал, что Галька затеет свой студень? Я думаю – пусть будет так, как будет, пусть девочка не питает иллюзий. Не все живут в отдельных квартирах. И не у всех папа большой начальник в собесе.
Так сказала крупная женщина Антонина Николаевна. И Наум Самуилович понял намек верно – он работал редактором заводской газеты после сокращения штата корректоров в издательстве «Наука». Но вступать в диспут с женой Наум Самуилович не стал, ничего нового диспут не даст, как он не дал за все двадцать пять лет совместной жизни – Антонина Николаевна всегда оставалась при своих. Хотя и она не многого добилась в жизни после окончания фармацевтического училища. Единственная ее удача заключалась в том, что аптека, в которой она работала провизором, размещалась в пяти минутах ходьбы от дома, на Кронверкском проспекте, а не в полуторах часах езды в один конец, куда Наум Самуилович добирался ежедневно с двумя пересадками. Однако умолчать Наум Самуилович никак не мог, не в его это правилах. Он вздохнул и пробормотал:
– Лучше бы я остался жить в Баку, там хотя бы работа у меня была приличная, не то, что здесь. Там меня уважали.
Казалось, Антонина Николаевна только и ждала предлога.
– В Баку?! – нарочито засмеялась она. – Ты все забыл? Ты писал статьи за своего ишака-начальника, а он их печатал под своей азербайджанской фамилией. И дарил тебе то полкило осетрины, то путевку на десять дней в Дом отдыха в Мардакьяны, откуда ты сбежал через два дня голодный как собака. А я дрожала от страха, что меня пырнет ножом чокнутый наркоман, которому отказывала продать лекарства с наркотиком. В Баку ты был таким же неудачником, как и в Ленинграде, где ты ждал другой жизни. Ну переехали. И что?! Что ты здесь имеешь? Соединился со своими родственничками. Нужен ты очень им, у них своих забот хватает. В Баку мы хотя бы жили в отдельной квартире, а здесь?
Антонина Николаевна металась по комнате мелкими шажками. Крашенные хной волосы падали на широкие плечи, покрытые пестрым восточным платком. Хлопала пухлыми ладонями по бедрам и бормотала на восточный манер, точно бакинская хабалка, чем всегда веселила мужа. Сам Наум Самуилович за годы жизни на востоке сохранил свои украинские корни, чурался местных обычаев, а из всего словаря знал только слово «салам».