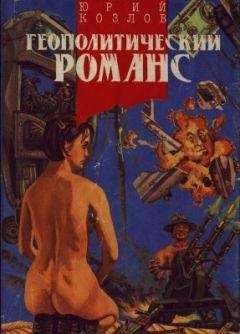Генрих Бёлль - Ангел молчал
Когда они свернули с улицы в парк, он правой рукой вцепился в свою сумку, а левой прижал к себе девушку. Она и тут не противилась, и он ощутил тепло и аромат ее изящной фигурки, вдохнул запах ее влажных от дождя волос и поцеловал ее в шейку и щеки, а дотронувшись губами до ее мягкого рта, перепугался не на шутку…
Она крепко и в то же время робко обняла его. Сумка выскользнула у него из-под мышки, и он, целуя девушку, внезапно понял, что старается разглядеть кусты и деревья, растущие вдоль аллеи: он ясно видел серебристую, мокрую от дождя дорожку, истекающие влагой кусты, черные стволы деревьев и небо, по которому неслись на восток тяжелые тучи…
Они несколько раз, целуясь, прошлись взад-вперед по дорожкам, и были минуты, когда он ощущал к ней нежность и нечто похожее на жалость, а может, и любовь, этого он не понимал. Он все оттягивал их возвращение на освещенные улицы, пока вокруг вокзала не стало так пусто, что он решил — видимо, пора…
Он предъявил на контроле свою открытку, дал прокомпостировать ее перронный билет и обрадовался, увидев, что поезд уже стоит под парами в огромном и пустом пространстве крытого перрона. Поцеловав девушку еще раз, он поднялся по ступенькам в вагон. Высовываясь из окна, чтобы помахать на прощанье, он боялся, что она заплачет, но она только улыбалась, долго и энергично махая рукой, и он облегченно вздохнул, поняв, что она не станет плакать…
Около шести утра он приехал в незнакомый город. Перед дверями домов стояли машины, развозившие молоко, а мальчишки из пекарни бегом разносили и ставили на ступеньках перед дверями пакеты с булочками — он видел вблизи этих парнишек с лицами, перепачканными мукой, это были бледные и все же веселые призраки раннего утра. Из какого-то бара вывалились шатающиеся фигуры — несколько штатских и один солдат. Гансу не хотелось спрашивать дорогу, и он просто пошел за солдатом. Он остановился, как и солдат, у остановки трамвая и смешался с толпой молчаливых рабочих, равнодушно оглядевших его с головы до ног…
Его мутило. Ночью он где-то выпил чашку остывшего бульона и съел черствую булочку и теперь чувствовал себя усталым и грязным, а когда трамвай подошел, он опять последовал за солдатом и встал рядом с ним на площадке. Только тут он разглядел, что солдат на самом деле был унтер-офицером или фельдфебелем. Лицо у него было красное, одутловатое и тупое. Из-под жесткой пилотки выбивался густой светлый чуб. На остановках в вагон входили солдаты и отдавали ему честь…
Улицы мало-помалу начали оживать, появились машины и велосипеды, площадка трамвая заполнилась рабочими, посасывающими трубки и молча ожидавшими своей остановки. Проезжую часть переходили школьники с тяжелыми ранцами на худеньких плечах, а трамвай все трясся и трясся по аллеям и улицам и постепенно пустел, пока в нем не остались одни солдаты…
Наконец они доехали до конечной остановки, расположенной между сжатыми полями пшеницы и большим огородным хозяйством. Все вышли из вагона, и Ганс опять медленно пошел за фельдфебелем, в то время как другие солдаты припустили бегом.
Они шли вдоль бесконечно длинного забора, окружавшего серое здание правильной формы. Внутри здания раздавались свистки и команды, а в окнах виднелись серые безрадостные лица. Потом между плотными рядами строений появился просвет с черно-бело-красным шлагбаумом, который поднялся перед унтер-офицером (а может, фельдфебелем). Часовой улыбнулся, потом посерьезнел и презрительно скривил губы. Но в конце концов и перед Гансом тоже поднялся черно-бело-красный шлагбаум, и он стал солдатом…
В этой жуткой тишине Ганс внезапно услышал шаги. Он насторожился и вынул изо рта сигарету: она стала желтоватой и влажной с одного конца. Теперь он держал ее в руке и прислушивался к шагам. Они приближались к нему сзади и справа, звук их то вдруг затихал, и тогда катились камни, то опять слышалась твердая и равномерная поступь. Наконец у перекрестка справа появился человек: это был рабочий в кепке и с сумкой, зажатой под мышкой. Он спокойно шагал по направлению к перевернутому вагону трамвая. Гансу показалось невероятным, чуть ли не отвратительным, что здесь еще встречались люди, которые регулярно и точно по часам ходят на работу с сумкой под мышкой…
Он вскарабкался наверх к решетчатой ограде палисадника и остановился в ожидании. Рабочий заметил его и остановился, потом медленно подошел поближе. Ганс сделал несколько шагов ему навстречу и тихо произнес:
— Доброе утро…
— Доброе утро, — осторожно откликнулся тот, потом перевел взгляд на сигарету и спросил: — Огонька?
— Да, — ответил Ганс…
Рабочий неторопливо порылся в кармане брюк. Ганс увидел, что волосы у него с сильной проседью, брови кустистые и почти совсем седые и широкий добродушный нос. Потом перед его лицом щелкнула зажигалка, и коптящий огонек опалил кончик сигареты…
— Спасибо, — сказал Ганс, вынул портсигар, открыл его и протянул рабочему. Тот поглядел на Ганса удивленно и нерешительно. — Прошу вас, — сказал Ганс, — берите же…
Он следил глазами, как два загрубевших пальца рабочего робко потянулись и вытащили из ряда одну сигарету…
Рабочий сунул сигарету за ухо, тихо поблагодарил и ушел…
Ганс продолжал курить, стоя у решетки палисадника. Прислонившись к ней, он ждал — сам не зная чего. Долго он смотрел вслед рабочему, а тот все удалялся, то исчезая из виду за кучами щебня, то вновь появляясь. Наконец он совсем исчез вдали — в аллее, которую обрамляли деревья, еще не успевшие пострадать от войны. Они поблескивали сочной зеленью: ведь на дворе был май…
III
Он двинулся дальше, и долгое время навстречу ему никто не попадался. По многим улицам было невозможно пройти. Битый кирпич и щебенка громоздились до вторых этажей начисто выгоревших фасадов, а из некоторых боковых улиц еще тянулись длинные плотные полосы стелющегося дыма.
На то, чтобы добраться от окружной железной дороги до Рубенштрассе, у него ушел почти час, а раньше он проходил это расстояние за десять минут. Между остатками стен высились печные трубы, горы мусора окутывались тяжелыми облаками дыма, изредка навстречу ему попадались либо мужчина в обносках, либо женщина в кое-как повязанном платке.
На самой Рубенштрассе, по всей видимости, вообще не осталось ни одного дома. Огромное здание плавательного бассейна в начале улицы полностью рухнуло, между обломками тут и там валялись блестящие зеленые кафельные плитки облицовки. Здесь, где раньше сходилось несколько больших улиц, и людей попадалось уже побольше. Все они двигались медленно, и вид у них был неряшливый и мрачный…
Из-за фасада одного начисто выгоревшего дома он услышал рокот тяжелых машин, двигавшихся, по-видимому, в сторону Рейна…
Он осторожно вскарабкался по кучам щебня и оказался на Рубенштрассе. Из какого-то окна — все они были заколочены досками — доносился плач младенца и женский голос, очень тихий и жалобный.
От дома № 8 целыми остались только вход в вестибюль и несколько комнат в нижнем этаже. Вход был чересчур широк и глубок, фронтон прогнулся, и стропила крыши тупо упирались в серое небо. Он уже хотел войти, но тут из дома вышла старуха в зеленом платке. Лицо у нее было желтое и дряблое, пряди нечесаных черных волос падали на лоб. Она несла в руке совок с собачьим пометом и, сделав несколько шагов, усталым движением выбросила его в ближайшую кучу обломков и повернула обратно.
Он спросил:
— Здесь живет фрау Комперц, я не ошибся?
Она молча кивнула.
Но он продолжил расспросы, хотя лицо ее выражало полную безучастность.
— Не знаете ли, фрау Комперц сейчас дома?
Старуха опять молча кивнула. На миг ее воспаленные глаза прикрылись опухшими веками, и целую секунду лицо казалось совсем мертвым…
— Пойдемте, — едва слышно выдавила она.
Он последовал за ней в вестибюль. Там царил такой мрак, что, когда она вдруг остановилась, он чуть не налетел на нее и увидел ее увядшее лицо совсем близко. От нее пахло кухней и грязной посудой, а зрачки двигались с такой ужасающей медлительностью, словно их приходилось с большим трудом проворачивать изнутри. Она взглянула на него и сказала спокойно:
— Я хочу вас предупредить, она больна… — Голос у старухи был тихий и хриплый.
— Я знаю, — откликнулся он.
У нее вдруг отвисла нижняя губа, она опять отвернулась и пошла в глубь дома, и каждый раз, когда она оборачивалась, он видел, что нижняя губа у нее по-прежнему висит, придавая лицу отвратительно циничное выражение.
Они вошли в довольно просторную прихожую, и Ганс, благодаря голубоватому окошку верхнего света, заглянул в черную, выгоревшую дотла пустоту за внешней оболочкой дома. Здесь, на первом этаже, повсюду стояла запыленная мебель, одежда громоздилась холмиками на ящиках, чемоданах и столах, а в одном углу стоял открытый рояль, похожий на чудище с множеством искусственных зубов. Старуха положила совок на стол, еще раз поглядела на Ганса, потом прильнула ухом к замочной скважине какой-то двери и лишь после этого громко крикнула: