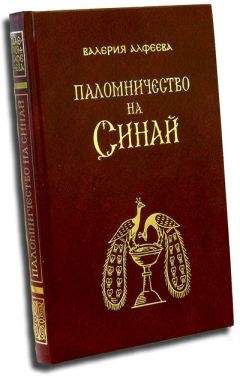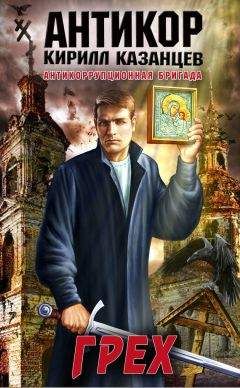Валерия Алфеева - Джвари
— «Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его»…
— Да, да… Ведь люди ищут пути к блаженству, к счастью. А кто может быть блажен? «Блаженны непорочные в пути, ходящие в законе Господнем», смиренно разъясняет Арчил. — Ходите в законе Господнем, и все будет хорошо. Он все указал — пути, и средства, и цели.
Но люди, как Адам с Евой, верят не Богу, а обольстителю, думаю я. Он обещает пути короче, напрямик. Что остановит их, если они сами «как боги»? Кто скажет: «не убий», «не прелюбодействуй»? И все дозволено, все рядом, но ухватил — а в руках пустота. «Обольщение», «прельщение», «прелесть» происходят от корня «лесть», что по-славянски означает ложь.
«Но ведь Бог Сам насадил древо познания добра и зла посреди рая-разве Он не знал, что люди примут эту лесть?» — спрашивает теперь человек, не понимая, откуда столько зла в мире. Конечно, если бы Бог хотел сотворить еще одну овцу, Он не вложил бы в ее природу способность делать зло. Но человек возвышен над всем творением до богоподобной свободы, до возможности выбора: молиться Богу или Его распинать.
И это страшный удел человеческой свободы: пройти путь самоутверждения без Бога, отречения от Него, путь блудного сына и понять, что путь этот ведет к распаду, гибели души и мира. Только поймут ли это люди раньше, чем погибнут? Или погибнут раньше, чем поймут?
Вот что решается в наше смутное время.
Тропинка заросла травой и полевыми цветами — этот спуск к реке нам показал Венедикт.
— Вы тоже ходите купаться? — спросил тогда Митя.
— Нет, я вообще три месяца не мылся.
Мы засмеялись, приняв это за шутку. Но сразу решили, что Венедикт несет такой подвиг или эпитимию, удручая плоть.
Воды в реке по щиколотку. Она течет быстро, прозрачно обволакивает каменистое дно, сверкает, слепит глаза, так много в эти дни солнца. Речка вьется, повторяя бесчисленные изгибы ущелья, и за каждым изломом обрыва открывается другой пейзаж, замкнутый спереди и за нами раскрытый только вверх. Там, в небесной высоте, неподвижно стоят деревца. Ущелье так узко, что местами берега не остается, и деревья прямо от воды поднимаются вверх по стене.
Остановились мы в закрытой бухте с небольшим водопадом и почти отвесными берегами. Блестящие, как графит на изломе, пласты под одним и тем же углом поднимаются вверх, создавая причудливый, геометрически четкий рисунок. Края пластов нависают один над другим зубчатыми остриями, под рукой они расслаиваются на звонкие пластинки.
Мы разделись на каменистом мысе под скалой, заросшем лопухами, и вошли в воду.
Митя прислонился спиной к камню под водопадом, сверкающие струи стекали по его голове, по плечам, рассыпались мелкими радугами. В лопухах остался подрясник и сапоги, и мальчик мой брызгался и смеялся, совсем забыв о послушническом достоинстве. А я лежала на каменистом дне, и каждая клетка кожи радовалась движению воды, ее прозрачной свежести. Потом мы поменялись местами.
Часа через два собрали одежду и пошли босиком вверх по реке под бормотание и лепет воды. На тенистой поляне нашли обломки жерновов остатки монастырской мельницы. А дальше ущелье расширилось, но было едва ли не в половину высоты завалено глыбами камня. Вода по этому камнепаду неслась бурно, в брызгах и пене. Здесь мы искупались последний раз и повернули обратно, неся в себе ощущение свежести и чистоты.
Отец Венедикт окликнул меня из окна трапезной. Он сидел перед большой миской с блекло-зелеными стручками фасоли, разламывал их, рядом стояла миска с картошкой и баклажанами. Я остановилась в дверном проеме, а он смотрел из тени с пристальным узнаванием, как будто мы давно не виделись.
— Я готовлю грузинское блюдо — аджапсандали. Вы можете научиться, если хотите.
Митя понес развешивать мокрые полотенца, а я села за стол напротив Венедикта и тоже стала разламывать стручки, бросать их в кастрюлю с водой. Скоро глаза так привыкли к тени, что я различала будто следы оспы на лице дьякона.
— Сестра Вероника… — Он медленно поднял глаза, мрачноватые, как обычно, или кажущиеся сумрачными от слишком густой черноты зрачков и ресниц. — Вы умеете готовить?
А мне показалось, что он хотел сказать что-то более важное, так вдумчиво он начал.
— Совсем не умею. У нас в смежной комнате жила одинокая родственница, она добровольно несла этот подвиг. И вот я впервые могу пожалеть, что ничему у нее не научилась.
— Ничего, мы вас научим. Знаете, что такое настоящая монастырская пища? У которой нет ни вкуса, ни цвета, ни запаха.
Я чищу картошку и баклажаны, он обдирает шуршащую кожуру с лиловых луковиц и режет их ровными кругами.
— Вероника… — вдруг снова решается он. — Так случилось, что я увидел вас сегодня на речке. Он положил нож.
— Можете поверить, если бы я знал, что вы ушли купаться, я не пошел бы за вами. Но я искал лошадь, она иногда далеко бродит. Шел по обрыву и вдруг увидел купающуюся женщину.
Я очень смутилась.
— А разве вы не видели купающихся женщин на вашем курортном берегу?
— Я и сам раньше ходил на пляж. Но когда люди долго живут в монастыре, они воспринимают все иначе. Здесь нет вашей вины, как нет и моей. Но в монастырях обостряется борьба со всеми страстями. И я должен был исповедать это. Мы считаем, что лучше говорить друг другу сразу, если ложится какая-нибудь тень. Чем дальше, тем бывает труднее. Я рад, что сказал: потому что хочу быть чистым перед вами. — Он улыбнулся. Когда человек приходит в монастырь, бесы подстраивают разные искушения… И еще одно — носите, пожалуйста, косынку.
Утром, уходя на речку, я, конечно, ее не надела. Зато теперь сразу же отправилась в палатку и повязала голову шелковым голубым платочком.
Отец Венедикт взглядом одобрил мое послушание.
Неловкость постепенно проходила, мы стали разговаривать почти непринужденно. Я предложила застелить стол скатертью. Он отыскал зеленую ткань, мы вместе накрыли ее прозрачной клеенкой. Я пожалела, что вчера не нарвала колокольчиков, их можно было бы поставить на стол.
— Мы редко ставим цветы, разве что в праздник одну розу перед иконостасом. В монастыре все должно быть жестко, строго. Чем больше красоты, тем больше соблазна.
Я приняла это как последнюю шутку на тему прежнего разговора.
Но сам этот разговор меня поразил. Такой прямоты и открытости я не предполагала между людьми. Я верила, что в словах Венедикта не было никакого лукавства.
Чуть ниже монастыря над обрывом есть поляна со старой садовой скамейкой на чугунных ножках. После вечерни я вышла посидеть здесь, посмотреть на закат.
Вскоре появился отец Венедикт. За ним шла босиком молодая рослая женщина.
— Сестра Вероника, — подвел он ее ко мне, — это Лорелея, ведущая актриса одного из наших театров. Недавно ей Англия аплодировала. Лорелея заехала к нам со своими друзьями. Мы поужинаем, а потом вы вместе приходите в трапезную.
Наружность Лорелеи была еще более неожиданной, чем ее имя, особенно для этих глухих мест. Каштановые волосы распущены по плечам и обведены надо лбом двумя витыми шнурами, соединенными в трех местах кольцами. Коротенькая полосатая блузка на тонких бретельках, скорее майка, приоткрывает грудь, не стесненную и никакими другими защитными средствами. На животе блузка едва сходится с поясом длинной ажурной юбки из марлевки. В руке босоножки на высоком пробковом каблуке и что-то вроде пелеринки.
Венедикт виновато улыбнулся и покинул нас.
Лорелея уселась рядом со мной на скамью, поджав ноги с перламутровым педикюром.
— Зовите меня просто Ло…
Принудительно облаченная в косынку и закрытое платье, я прореагировала на ее вольный наряд, наверное, более ревниво, чем в любое другое время. И после нескольких любезных фраз, которыми мы обменялись, не менее любезно заметила, что в мужской монастырь неприлично приходить с обнаженной грудью.
Она машинально прикрыла грудь ладонью, но довольно легко ответила:
— Это не имеет значения. Они видят во мне что-то более интересное. А наши предки, судя по старым фрескам, ходили в полупрозрачных одеждах, как Ангелы.
— Не знаю, как предки, но наши современники утратили ангельскую чистоту. И, наверное, вам это хорошо известно.
— К тому же я здесь бываю давно, некоторых знаю с детства… Венедикт учился в художественной академии вместе с моей дочерью.
— Сколько же вам лет? — удивилась я, впрочем, довольно сдержанно.
Странный этот разговор пока не вышел из рамок приличия.
— Сорок шесть… — ответила она не очень охотно. А я-то предполагала, что ей лет двадцать восемь, и потому позволила себе говорить о ее одежде. Присмотревшись, я обнаружила, что волосы у нее крашеные, но все остальное сохранилось прекрасно.
— А сколько лет Венедикту?
— Двадцать девять.
Это была еще одна неожиданность. Я не думала о его возрасте, но почему-то исходила из впечатления, что мы с ним ровесники. Значит, лысеющий лоб и борода старили его на пятнадцать лет.