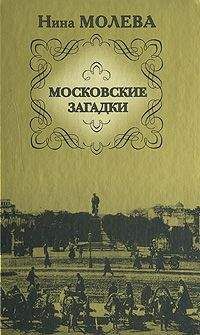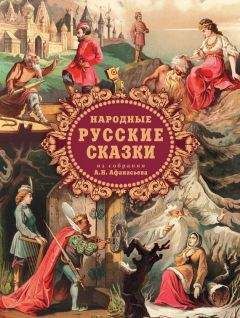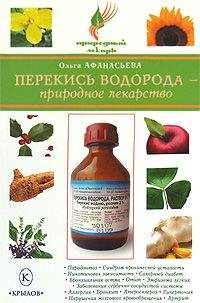Театр тающих теней. Конец эпохи - Афанасьева Елена
А она, Анна? Какая она?
Рыжей достался сын. О котором просила она, Анна. Ей – Кирилл. Такой, как он есть. Красивый, даже с этой ужасной бритой головой, зачем он только продолжает брить голову, когда тиф давно прошел! Анна спрашивала, машет головой: «Отстань! Так быстрее! Протер череп платком и можно бежать!» Нелепый в своей вере в революцию. Нежный. Жестокий. Любимый. Пугающий. Жаждущий власти. И идиотически верящий в идею, в которую, и слепому видно, верить нельзя. Порой Анне кажется, что Кирилл счастлив не с ней, и не когда-то прежде с Рыжей, и не с какой-то другой возлюбленной, а только с пьянящим, будоражащим, возбуждающим мороком власти. Что и в постели он с властью. А не с ней.
В одну из ночей Анна выскальзывает на кухню, прихватив со стола перо и бумагу.
Шаль на плечах. Серость то ли ночи, то ли рассвета. Котенок, теперь тоже Антипка, Антип Третий, принесенный девочками с улицы и прижившийся в их доме – Леонид Кириллович не позволил прогонять, – трется у ее ног.
И строки. Строки, которых с самого рождения Иры в себе найти не может… Не могла.
Строки. Бегущие быстрее, чем она успевает записать.
На секунду замирает на последней строке. И рука, обмакнув перо в чернила, дописывает:
– Какая наглость! – вслух произносит Анна.
И начинает смеяться. На весь дом. На весь город. Весь мир. На всю эту звенящую любовью, страхом, стыдом и счастьем петроградскую январскую ночь.
Ад – да.
Ад – да… Да, да, да, да, это ад, ад, ад, ад…
Почему слова эти состоят из одних букв?
В начале февраля Кирилл приносит письмо. От матери Анны.
– Дипслужба навела справки. Найти княгиню Истомину в Европе оказалось возможным. Они в Берлине.
И Анне кажется, она падает в бездну.
Ад – да.
Чему ни скажи она ныне «да», всё одно будет ад.
Зачем Кирилл нашел ее мать?! И дочку. И мужа.
Она сама его просила? Просила сама. В тот первый день в начале мая, когда они с девочками переступили порог этой квартиры. Но тогда она еще не переступала порог его спальни.
Она сама его просила. ДО.
До всего.
Зачем же он отдал это письмо ей уже ПОСЛЕ?! Зачем он ей письмо отдал? Хотел бы ее себе оставить, ключ к ее старой жизни в руку бы не вложил…
Уехать? Предать всё то, что с ней за эти месяцы произошло. Предать Кирилла. И Леонида Кирилловича. И даже маленького котенка Антипку Третьего, который теперь спит с ней на одной подушке. Предать эту новую, невероятную и наполненную жизнь в ДИСКе – не дочери богатой княгини Истоминой, а свободного человека. И даже поэта!
Остаться? Предать Машу? И мужа. И мать…
Если она с Олей и Ирой останется здесь, то ее материнское сердце не простит предательства по отношению к средней дочке! Это же ее Машенька, Манечка, Маруся. Ее девочка. Ее дочка, которую она родила в бурю – небо в одно мгновение стало черным, все перевернулось, а у нее схватки начались.
Буря бушевала над клиникой Отта, что в нескольких минутах ходьбы от ее нынешнего дома. Анна рожала Машу здесь, в клинике на Васильевском, и здесь же в то же самое время жил Кирилл. Ходил по улицам, бежал в библиотеку под окнами клиники именно в тот миг, когда она отчаянно, на весь Васильевский остров, кричала: «Мама! Мамочка!» – хотя к ее собственной матери это никакого отношения не имело.
Или Кирилл бежал не в библиотеку, а к какой-то из здешних дешевых шлюх с Шестой линии, пригревающих и профессуру, и нищих студентов.
Или вел к себе в отцовскую профессорскую квартиру одну из тех прогрессивных курсисток-бестужевок, которые, прежде сметания всех основ и теорий «стакана воды», смели все основы для себя сами. Ей между адом и адом выбирать надобно, а она ревнует. Даже к прошлому столь истово ревнует Кирилла.
Ад-да.
Ад-да.
Что ни выбери – всё ад.
В письме, которое ей передал Кирилл, мать укоряет Анну за то, как много горя они пережили. Военное судно, на котором, как было договорено, они с девочками должны были уплыть из Крыма, было подорвано и полностью затонуло. В командовании им сообщили о гибели Николая Константиниди и всех, кто был на борту. Аглая Сергеевна, которая чудом добралась до Ниццы одна, без сыновей, была безутешна. «Царство небесное этому достойнейшему юноше!» – пишет мать. «Туда ему и дорога, в преисподнюю!» – мысленно отвечает ей Анна.
Всё это Анна уже знает от самого «воскресшего» Константиниди, не знает только, как тому удалось спастись самому и подставить вместо себя несчастного брата. Мать пишет, какое горе она, Анна, принесла своей семье тем, что не приплыла в Ниццу, как было условлено. «Мы считали вас погибшими. Оплакивали. Не говорили Маше, но она почувствовала нашу скорбь и всё выпытала. Больше года девочка рыдала по ночам. Ты должна, просто обязана была выехать из Советской России и найти нас в Европе!»
Опять она во всем виновата. И ни слова о том, что, сядь они с девочками на тот корабль, и они бы погибли. А так они живы.
В том же конверте несколько листков от мужа. Дмитрий Дмитриевич пишет старомодными витиеватыми фразами, как тоскует по ней и девочкам, как выросла Маша, какие у нее успехи в гимназии, какую научную работу на кафедре Берлинского университета ему предложили и почему он не будет на нее соглашаться, ибо здешняя профессура ничего не понимает в его исследованиях… Читая исписанные почерком мужа страницы, Анна думает, что никогда прежде не получала от мужа писем. Как вышла за него замуж, так всегда была с ним рядом, писать не было смысла. А теперь… Теперь перед ней письмо чужого человека. С чужими чаяниями, чужими мыслями и чужими чувствами.
И только последний выпавший из конверта листок от Машеньки заставляет сердце сжаться. Маша невозможно выросла. И стала невыразимо похожа на мать Анны. Мать вложила в конверт фото их троих, сделанное на Рождество в Берлине.
Два почти чужих ей человека. И дочка.
Остаться в Петрограде с Кириллом, поэтами, с новой жизнью – и никогда больше не увидеть Машу?
Забыть Машу? Навсегда проститься с ней, отдать ее другому миру, бросить? Мать и муж, конечно, вырастят внучку и дочку, не бросят. Но как она после этого станет жить?
Бросить среднюю дочку и остаться с Кириллом, но кто сказал, что Кирилл хочет, чтоб она с ним осталась? Он даже «люблю!» ни разу не сказал. Разве в разгар соития, когда слова диктуют ни чувства, а плоть, да и произнес ли он или ей только послышалось?
И кто сказал, что она и дальше будет жить здесь с Кириллом? Быть может, он найдет ей комнату – работу и паек же нашел – и выставит за дверь? Или сам уйдет на другую квартиру, переедет в другой город, другую жизнь? Кто сказал, что она, Анна, для него значит больше, чем Рыжая Лариса? Рыжая хотя бы товарищ по борьбе, а из Анны какой «товарищ»?