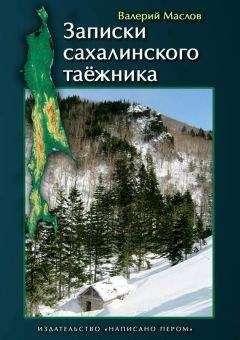Кен Кизи - Когда явились ангелы (сборник)
И сказала, что он совершенно точно сказал, не было у меня права так его ребенку врать бессовестно, а потому я взбучку заслужила. Хор свое тянет, вроде как: Ра. Ра. Тат ни кам. Мистер Келлер-Браун грит: ладно, извинились взаимно. Опять дружбаны? Я грю: ну, наверное. Ра. Ра. Тат ни ай сис ра кам PA – a эта бусина вращается медленно так, словно капля сиропа на ниточке. Он грит, надеется, я не передумаю с ними в ЛА ехать; для них это будет честь. Я грю: жалко, что не в Арканзас, – мне в Арканзас надо, по юридическим делам. А он грит, они после Оклахома-Сити в Сент-Луис заедут, а это рядом с Арканзасом. Я ему: посмотрим, каково мне завтра будет, – а то сегодня у меня большой день был. Он грит, спокойной ночи, и мне помог спуститься со ступенек. Я ему спасибо сказала.
Когда он мне из окна автобуса махал, по лицу там не понять было, поверил он мне или нет. Все вдруг в десять раз ярче сделалось, когда я почуяла, как он ужасную эту тень свою стригущую убрал и обратно в ножны себе сунул. А теперь и думать о ней забудь, говорю я себе, обо всем забудь, и сделала себе картинку: дождик перестал, гусь взял и улетел.
Я по лунному свету яркому пошла по опушке ясеневой рощи. Все опять нормально выглядело. В деревьях – сверчки, больше ничего. Земля ровная, а ночь спокойная. Только я себя убедила, что все кончилось, что это просто кошмар был у старухи вдовы, и ничего больше, ничего хужее – слышу, мама-сиамка мяучит.
Котенка под корни ясеня засунули и большими камнями завалили. Я их и сдвинула-то еле-еле. Ты права была, говорю маме, надо было в ревене его с собой оставить. А она плачет и за мной идет, а я его к хижине тащу. Пока шли, я все время с ней разговаривала, а сама пальцем бедного котеныша холодеющего трогаю, проверяю, порезан он, сломан или чего. А когда на мохнатом горлышке нашла – сразу вспомнила, как в сумерках груши собирала девочкой совсем, в Пенроузе, в Колорадо, и потянулась к такой смешной вроде груше пушистой, а она вдруг развернулась, заверещала и улетела, я с лестницы упала, и вся рука у меня была в искусинах от летучеймыши… вот о чем я подумала, когда пальцы мои признали кулон на цепочке, затянутые у него на шейке. О господи, вскричала я, и во что я теперь только вляпалась? И швырнула его под крыльцо хижины, а цепочку даже порвать не попыталась. Потом вовнутрь захожу еще одну пилюлю из коробочки беру и сразу на колени чтоб мне был знак.
А старый тупой петух только проголосил. Ладно. Тогда ладно. Если не знак Господи чтоб я точно уверилась тогда силы хотя бы жить как живу потому как у меня похоже и выбора то не осталось только дальше идти вдоль крепости или порта Аминь Господи аминь…
(продолжение следует)
© Перевод М. Немцова.
Вот теперь мы знаем, сколько дырок влезет в Альберт-Холл
На исходе 1968-го по некоей причине – не особо внятной даже тогда, а нынче окончательно затертой временем – центральные деятели Дэдовщины договорились с Битлами послать на пробу в лондонский «Эппл» особей, ушибленных психоделиками.
Культурный лендлиз, через море головами[221] и то-се.
Было нас всего тринадцать – клевых хиппи, кайфовых чуваков и крутых гарпий; Ангелы Ада и их моцики; сколько-то серьезных управленцев с кучей проектов и предложений… один проказник без малейшего плана.
Я бы с радостью слинял из США. Только что вышла эта книжка про меня и моих электропрохладительных дружбанов[222], и меня поджаривал свет рампы. Прямо жег ультрафиолетовым глазищем. Вольтаж всеобщего внимания чуток пугал и сильно распалял – нужно было передохнуть, пока я не подсел или не передознулся. Встань на свету – чувствуешь, как это око оглаживает тебя? Такое не забывается. Миг – и ты переменился, взлетел, ты единственный такой, вознесся, ты один, ты выше дилетантской своей дерготни – страха сцены, угрызений и тэ пэ. Застенчивость и нерешительность тают под ударом этого луча. Исчезают – благодать и сила затопляют тебя. Похоже на спиды, только лучше. Дремлющая протоплазма мигом оборачивается совершенством Брюса Ли – и выходит дракон[223]. Но тут не без червоточины, верно? Потому как если зайти к этому глазу с тыла и глянуть в него на звезду, что сияет вся такая вознесенная, увидишь, что у боготворящего телескопа имеется прицел, а в стволе нарезы для светил: Кеннеди… Кинг… Джоплин… Хемингуэй…[224]
Короче, полетели мы в Лондон и летали (как выражается Крестьянин Джо[225]) всю дорогу. А когда «ДС-8» загудел и нырнул в густой английский туман, все сообразили, что после нашего трансатлантического балагана почти наверняка грядет таможня, и все, что не спустишь в унитаз, лучше быстренько проглотить.
Подплыли мы к деловитой стойке британской таможни, чертова дюжина из Америки, у всех глаза на полвосьмого, все в коже, мехах, ковбойских шляпах и вообще прикинуты шикарно. Увидев такое, затюканный таможенник тяжко вздохнул, а затем три часа вежливо нас шмонал – заглянул даже в цилиндры двух «харлей-дэвидсонов». И только сильно под вечер наш таксишный кортеж устремился к Лондону по кривосторонним дорогам, сопровождаемый Ангелами Стариком Бертом и Смазкой Сэмом Смэзерсом на двух громадных моциках. К «Эпплу» мы прибыли уже в липких серых сумерках.
Группка верных ждала у дверей, исходя лучистым терпением благоговейных пилигримов. Фрисковая Фрэн, высокая блондинистая мамашка тридцати пяти лет, у которой была слабость к Старику Берту и его новому «харлею», а также норковая шуба за шесть штук баксов поверх футболки и засаленных джинсов, оглядела стадо фанатов на ступеньках Сэвил-роу, затем чопорное конторское здание и заметила:
– Такое ощущение, что я сейчас Папу Римского узрю.
В наружном вестибюле нас встретила щекастая секретарша – мужчин одарила наглой ухмылкой, всех поголовно – тиснеными приглашениями. Она смахивала на Лулу в «Учителю с любовью»[226]. Когда позвонили сверху, она запустила нас в вестибюль № 2, где рок-н-ролльные менеджеры – янки, англы и даже один заезжий лягушатник – стали здороваться, обниматься, давать пять и базарить про рок-н-ролл. Так мы преодолели вестибюль № 2 и очутились в ало-ковровой цитадели вестибюля № 3, где к нам наконец спустился Джордж Харрисон, пожал всем руки и проводил в самое сердце «Эппла» – бесконечные кабинеты, путаные коридоры, сплошь увешанные золотыми пластинками, громадная студия звукозаписи в подвале – которую как будто Дисней проектировал для капитана Немо, а дизайнером нанял Хью Хефнера[227], – и в конце концов в арку без двери и наверх, в большую комнату, где, сказали нам, будет наша вписка. У нас глаза на лоб полезли. Комната была забита едой – жареные поросята с яблоками во рту, копченые индейки, сыр, хлеб, ящики шампанского и эля – башнями под потолок… это потому, объяснили нам, что в «Эппле» скоро большая рождественская вечеринка. Старик Берт тотчас уронил свою пожамканную скатку на пол и пинком отправил под стол, заваленный глазированной гусятиной и начинками.
– Можно жить, – объявил он.
На полсек заскочил Ринго, а один раз мы вроде заметили в коридоре Пола, хотя кто-то сказал, что это никакой не Пол, Пол в Нью-Йорке, у него помолвка. Но он правда был ясноглазый, обворожительный и босой – может, и впрямь Пол. И маленький к тому же.
– Они все такие… такие… – Паук, долговязая бывшая звезда легкой атлетики из Лос-Анджелесского универа, обернувшаяся волосатым тридцатилетним хипьем, подбирал слово, – миниатюрные.
– Я думал, у них только Ринго такой, – прибавил Смазка Сэм.
– Точняк, – сказала норковая мамашка, чьи глаза сияли нежной заботой. – Хочется над ними зонтик, что ли, подержать.
Джона мы увидели только потом, при знаменитом Рождественском Разгроме «Эппла». Тот вечер описан в куче книжек, где то янки виноваты, то наоборот, так что углубляться не будем. Я только расскажу, как он появился, – пущей драматичности ради…
День подбирался к кануну праздника, а мы выбрались из нашего съестного кабинета побродить по рождественскому Лондону и хорошенько напиться в пабах – нагулять аппетит к грядущему пиру. Дошагали назад до Сэвил-роу, 3, мимо стайки щекастых фанаток, что топтались на ступеньках с книжицами для автографов (и все они смахивали на Лулу), через вестибюли № 1 и 2 в святая святых вестибюля № 3, и увидели, что плацдарм посреди роскошного алого ковра занят другим отрядом янки. Без понятия, на какие рычаги они давили, чтоб так глубоко забуриться в «Эппл», – выглядели они еще затрапезнее нас. Щербато ухмылялись полдюжины бородачей, вопила толпа голых деток, и еще была одна тетка – худющая и рыжая, в том районе тридцати, где обостряется жилистость, в крестьянском домотканом платьице, синем и поблекшем; гнусавила она тоже по-деревенски.