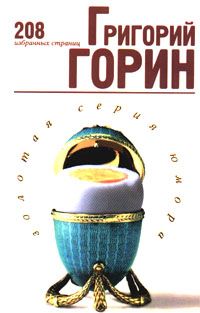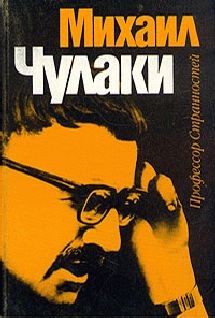Михаил Чулаки - У Пяти углов
Филипп открыл дверь в комнату, и Рыжа бросилась туда, заметалась между мебелью, колотя хвостом по ножкам столов и стульев. Наконец успокоилась, устала, села, свесив на сторону язык. Обе миски ее оказались пустые. Филипп взял их и пошел в кухню, а дверь за собой запер, чтобы Рыжа не побежала за ним.
Ксана оказалась как раз там — ставила чайник. После вставания ей надо обязательно выпить чаю. На Филиппа она посмотрела с удивлением: он редко появляется в кухне в такое время.
— Ты чего?
Собачьих мисок в руках у Филиппа она умудрилась не заметить.
— Да посмотреть хочу, не осталось ли вчерашнего супа.
— Осталось. А зачем тебе? Ты же днем супа не ешь.
Филипп без дальнейших объяснений полез в холодильник, достал кастрюлю и стал наливать суп в собачью миску.
— Чего это ты делаешь, ведь… — и тут наконец до Ксаны дошло: — Нашлась?!
Голос у нее сломался как у подростка, которого кидает из дисканта в баритон.
— Ну да, — подтвердил Филипп как можно небрежнее.
— Где?!
Она спрашивала, а сама уже бежала по коридору.
Когда и Филипп размеренным шагом дошагал через весь коридор к своим комнатам, Ксана с Рыжей уже лизались.
Собаченька, где же ты была?! Кто тебя, животину такую невозможную, украл?! Да, скажи, сами оставляют привязанную, где ж мне, такой маленькой, против воров? А чего же ты, собаченька, на них не лаяла? Я бы услышала… Нет, правда, Филипп, а чего она не лаяла?
— Подманили на что-нибудь. Помнишь, как у Швейка: на говяжью печенку пойдет самая верная собака.
— Какая же она верная, если пойдет за печенкой?! Я, скажи, не такая, я верная по-настоящему! Да, Рыженька?
— Увели же. И не лаяла. Значит, пошла. Филипп и вообще любит собак, и уж Рыжу тем более, но когда Ксана начинает превозносить их уже сверх всякой меры: что и самые-самые они умные, самые-самые преданные и неподкупные — ему хочется противоречить. Особенно насчет собачьего ума. Ну действительно, было б у Рыжи достаточно ума, она бы и лаяла, и упиралась!
— Значит, что-то такое случилось, чего мы не знаем. Какие-то обстоятельства, субъективные или объективные! Все равно они лучше нас. И вернее, и умнее. Потому что они естественные, у них чувство, а у нас пустой ум.
Ум, разум, тем более рационализм — это для Ксаны бранные слова. Много об этом Филипп с нею спорил, да без толку. Неужели и сейчас затевать спор? Рыжа нашлась, радоваться надо! И Филипп промолчал.
— Да расскажи, как она нашлась?! Почему из тебя каждое слово клещами?! Сама прибежала или привели?
— Привели. Позвонили по телефону и привели. Попросили денег.
— Сюда привели?! В квартиру?! Какие они из себя?! Кто?!
— Я их не видел. Оставил деньги, они взяли, оставили Рыжу.
— Скрываются, значит! И сколько ты им дал?
— Двадцать пять.
Почему-то Филипп решил снизить сумму выкупа. Мюжет быть, чтобы Ксана чувствовала себя меньше виноватой — потеряла-то Рыжу она.
— Смотри-ка ты: целых двадцать пять! До чего додумались, паршивцы: это значит, крадут собак и берут выкуп! Наверное, Рыжа у них не первая.
Что крадут они собак не столько ради выкупов, сколько ради шкур, Филипп сообщать не стал — тоже пожалел Ксану. Сказал притворно грубо:
— Ладно, хватит вам лизаться, дай поесть человеку.
— Наголодалась, собаченька! Эти ворюги небось и не покормили. Да, скажи, а если б и кормили, все равно какой аппетит, когда сидишь украденная. Ешь, собача, ешь!
Рыжа стала есть, но каждую секунду деликатно поглядывала на хозяев, показывая, что хоть и занялась едой, но помнит, что она только что нашлась и никакая еда не может отвлечь ее настолько, чтобы забыть, как она рада, что снова дома.
А Филипп смотрел на нее сверху, видел, как в такт с глотками проходят волны по всему маленькому телу, и вдруг особенно четко осознал, что этой сцены могло не происходить, что Рыжина шкура могла сейчас сохнуть в каком-то живодерском притоне, и стало одновременно и по-настоящему страшно, и по-настоящему радостно. Вдвойне против прежнего.
И ведь кончилась история благополучно, может быть, потому, что Ксана приписала под объявлением: «композитор Варламов». Они сами признались по телефону — эти живодеры. Невозможная подпись, которую он бы никогда не допустил, если б видел, как Ксана писала объявления, — но, выходит, помогла?! Даже эти живодеры, которые наверняка не знают ни одной его ноты, отнеслись по-особому. Признали, что такое особое отношение к композитору — в порядке вещей. Или проще? Решили, что с композитора легче содрать деньги? Кто другой не даст за собаку пятьдесят рублей, а композитор — даст?
Филипп присел и погладил Рыжу, как бы удостоверяясь, что она действительно здесь. Рыжа мимолетно лизнула его в ладонь и продолжала есть — наголодалась.
— И у тебя могли ее увести точно так же, — вдруг сказала Ксана. — Я тебя сколько раз предупреждала: не спускай ее одну на лестнице, не позволяй выскакивать на улицу. Выбежала одна — и сразу ее схватили, пока ты спускаешься. Сколько раз говорила!
И таким тоном, будто на самом деле украли Рыжу у него, а не у нее. Он-то ведь так ни одним словом и не упрекнул ее — по крайней мере, вслух, — щадя ее, понимая, что она и так мучается, — и вот!..
Можно было ответить! А что ответить? Что из-за ее разгильдяйства с Рыжи чуть не содрали шкуру живьем? Все-таки это жестоко. Даже после Ксаниного наскока не хотелось говорить ей жестокие вещи.
Он сел к роялю и стал наигрывать новый хор на слова неведомого Макара Хромаева:
И нет на свете женщины, Бесконечно исковой женщины…
Ведь Ксана не знала, для каких слов предназначена новая музыка. Но, может быть, что-то почувствовала? По характеру темы. Во всяком случае, она замолчала, села на тахту. Рыжа, наевшись, подошла и с громким вздохом улеглась у ее ног, положив голову на носки туфель.
Против обыкновения, он даже доиграл до конца, и тематический ход завершился переходом в терцию:
А мысли кромсают голову, И нет ей теплых коленей!..
Филипп аккуратно снял руки с клавиатуры и улыбнулся Ксане почти виновато: уже тем, что он соединил стих Макара Хромаева с музыкой, он становился соавтором стихов тоже, он пел про себя! Ксана — есть, а вот бесконечно ласковой женщины — нет…
— Красивая мелодия, — сказала Ксана.
Ну вот и первое признание. Ксане можно верить: она никогда не притворяется из всяких там любовных или родственных чувств. Она — не Вероника Васильевна, которая восхищается всем, что бы ни сделал ее кандидат. Хотя лучше бы была как Вероника — Филипп часто завидует счастливому кандидату…
И все-таки одобрение Ксаны — оно тоже отвлекает. Успел бы еще Филипп получить одобрение, а пока лучше бы ему сидеть и работать в отдельном кабинете. Даже живодеры, похитившие Рыжу, поняли, что композитору Варламову полагаются кое-какие привилегии. Так почему не попробовать похлопотать о пустой комнате, оставшейся после Леонида Полуэктовича?! Может быть, только и ждут в ЖЭКе или в исполкоме — где там распределяют освобождающиеся комнаты? — может быть, только и ждут, чтобы композитор Варламов принес заявление? Может быть, удивляются, что до сих пор не несет? Тем более что не такая уж сейчас завидная вещь — комната в старом фонде, в большой коммуналке. Не много на нее охотников — уж если люди ждали очереди, они хотят отдельную квартиру! Вот и этажом ниже в точно такой же квартире давно пустует комната — и никто не въезжает. Да, может быть, только и требуется от него — подать заявление, а он стесняется, боится похлопотать. Ждет, что ему предложат? Не дождется! Под лежачий камень…
И Филипп решил, что обязательно, что сегодня же!.. Но сообщать о своей решимости ни соседям, ни даже Ксане или Николаю Акимычу не стоит: потому что если все-таки откажут, будет унизительно выслушивать сочувствия, — ведь если откажут, значит, не заслужил.
Он снова улыбнулся Ксане:
— Хватит на сегодня. Пойду теперь пройдусь по делам.
— А перекусить? Ты же всегда в это время.
Вот и о нем забота, почти как о кандидате, счастливом муже Вероники Васильевны.
— Перекушу и пойду.
Филипп и на самом деле не знал точно, куда идти по этому делу. Но все-таки по зрелом размышлении решил, что в исполком: в ЖЭКах комнаты не раздают, слишком было бы просто, если бы в ЖЭКе. Хотя и жаль: в ЖЭКе как-то домашнее, свободнее. Уже подходя к исполкому, он жалел, что взялся за эти хлопоты. Но что значит — взялся? Повернуть в сторону — и никто никогда не узнает ни о его первоначальной решимости, ни о последовавшем малодушии. Но Филипп обещал — хотя бы самому себе; а он не умеет отказываться от обещаний, даже данных только самому себе. Раз он решил — должен все перенести.
Входя в монументальное здание, Филипп чувствовал себя маленьким жалким просителем, к тому же явившимся с незаконной просьбой. Кому какое дело, что у него нет отдельного кабинета, что жена его подолгу спит, а проснувшись, занимается лежа гимнастикой, щелкая при этом суставами? Кому до этого дело! Все очень просто: у них шестьдесят метров на троих — совершенно достаточно, даже при том, что Филиппу полагается дополнительная площадь. И тем более, в комнате, которую он просит, еще тридцать метров — то есть получилось бы в сумме девяносто! Нахальство, чистое нахальство! Да, пришел он с нахальной просьбой, но не умеет же он быть легким и развязным в общении, как всякий уважающий себя нахал. Хорошо и легко быть нахалом, Филипп сейчас завидовал нахалам, хотел бы научиться быть нахалом — но увы. А куда ж соваться с нахальной просьбой, если ты по своему внутреннему устройству — не нахал!.. Он стоял перед указателем, гадая, куда ему следует обратиться, а хотелось ему одного — уйти! Господи, ну с чего он решил, что кто-то ждет от него заявления на эту пустую комнату?! Похитители собак его уважили — и сразу возгордился!.. На указателе значилось «Районное жилищное управление» — наверное, ему туда.