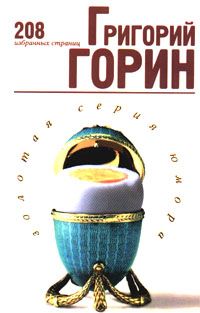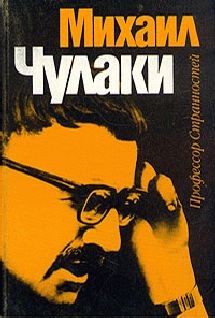Михаил Чулаки - У Пяти углов
При таком «досуге» бутылку выпили досуха быстро. И чай тоже.
Лиза вышла проводить Александра Алексеевича на площадку. Оживление с него сошло.
— Так что, Лизавета, ты окончательно ответила? Не передумаешь?
— Нет, Саша.
Она проверяла себя: при новом «нет» явственно усилилось чувство легкости и свободы. Значит, все правильно.
— И как же мы? Будем по-прежнему?
Лиза еще не была уверена, но, кажется, по-прежнему ей тоже не очень хотелось.
— Не знаю. Может, и не надо, а, Саша? Правда, не теряй времени, ищи себе, которая моложе и лучше.
Он улыбнулся довольно жалко.
— Все-таки я позвоню, хорошо? Подумаем еще, а? Она разрешила снисходительно:
— Позвони, чего ж.
И когда дверь за Александром Алексеевичем захлопнулась наконец, снова усилилось чувство легкости. Освободилась!
В комнате Федька встретил ее подозрительным взглядом:
— Что-то ты, мочка, развеселилась сегодня. Да вы оба.
Не было смысла скрывать от сына:
— Александр Алексеевич сделал мне официальное предложение, а я отказала. Еще вопросы есть?
Видно было, что вопросов еще много. Федька высказал вслух только малую часты
Ну ты даешь, мочка! А с чего? Мужчина солидный и интеллигентный.
Не знаю. Чего-то не захотелось. Скучный он.
Вообще-то да. Но сегодня и не скучный. Про это дело — ну, с репродуктором — забавно рассказал. И как пели дурными голосами из-под забора.
Оба улыбнулись. И оба одновременно подумали об одном: Лиза — о своем эксе, как сказала сегодня Евка, Федя — об отце.
— Ну, у него еще нет дачи, — сказала Лиза.
— Да, и он пока не такой уж известный, — подхватил Федя.
И оба продолжали думать о нем. Наверное, Александр Алексеевич поступил немного бестактно, рассказав эту историю: хотя она и смешная сама по себе, но рассказывать при Лизе, которая сама бывшая жена композитора, — нет, не надо было. Тем более и при сыне…
Необыкновенное чувство легкости прошло как-то само собой. Явились запоздалые сожаления. Нет, не об отказе Александру Алексеевичу, конечно. Запоздалые сожаления, запоздалая боль. Почему тогда Лиза рассталась с Филом почти легко?! Почему чем дальше, тем больнее вспоминать?!
Потому что было — и прошло. Все проходит — об этом философы и поэты твердят от начала мира. Все проходит — и остается боль. Потому что нельзя, чтобы проходило, нельзя терять, нельзя расставаться! Каждая потеря, каждое расставание — это подобие смерти, это частичная смерть. Мы утрачиваем и расстаемся — и это непрерывная смерть в рассрочку. А нельзя умирать, нельзя!
6
…Куда-то Филипп с Лизой шли вместе. Непонятно, куда. Но по какому-то общему делу. Важному и общему. Очень хорошо, что у них общие дела, и такие важные. Вот сейчас вместе войдут, вместе сделают…
И когда проснулся, еще некоторое время казалось, что они с Лизой ходили вместе по какому-то важному делу. Важному «общему. Казалось — и оттого было чувство уверенности, что ли. И покоя. Все в порядке, когда у них важное общее дело.
Проснулся Филипп, как всегда, рано. Сейчас он встанет, пойдет гулять, как обычно. Позовет Рыжу… С этого момента он и осознал окончательно, где он и с кем. Не позовет он Рыжу — Рыжа потерялась!
Ну как так можно было! Только с Ксаной случается такое. Из-за ее разгильдяйства. Столько разговоров, как она любит животных, столько рассказов о необыкновенном Раскате — а повидать того же Раската больше и не собралась, хотя Адлер — не Камчатка, добраться не трудно; да, Ксана очень и очень любит животных, но со скромной Рыжей, которой до Раската далеко, гуляет утром и вечером Филипп, а Ксана вышла с нею чуть ли не единственный раз — и сразу потеряла!
Филипп встал в свое обычное время, а Ксана спала. Так переживала вчера, столько говорила, что нужно ходить и искать Рыжу, ходить и искать — и вот спит.
Филипп вышагивал свою обычную прогулку, и каждый раз, увидев вдали небольшую собаку — масти в фонарном свете не разглядеть, — вздрагивал и сбивался с ритма. Но нет, Рыжу он не встретил. Если бы она была на свободе, она бы прибежала к дому. Он вышагивал свою обычную прогулку, снова и снова выпевая про себя новый хор — еще не устоявшийся, ищущий окончательную форму:
Взвалить на себя весь мир, И всю безнадежность мира…
Хорошо, что стихи и странные, и угловатые. Такие и запоминаются, такие и проникают в душу.
И нет на свете женщины, Бесконечно ласковой женщины…
Когда Филипп вернулся, Ксана еще спала. Обычное дело, Филипп уже и не верит себе, когда вспоминает, что когда-то они летом в шесть утра вместе ездили гулять и купаться на Острова. Обычное теперь дело, пусть бы спала, если б не пропала Рыжа, если б не надо было ее искать — неизвестно где, но искать, а не спать спокойно. А то развесила объявления — и успокоилась?
Что объявления развешаны, Ксана сообщила еще вчера, но увидел своими глазами объявление Филипп только что — под аркой Толстовского дома. Хорошее бы объявление — если бы не подпись! Как прочитал: композитор Варламов — сразу стыд и досада. Филиппу очень хочется, чтобы все знали его музыку; в идеале — чтобы не могли жить без его музыки! И пусть бы ему за музыку привилегии — например, дали бы наконец отдельный кабинет, чтобы можно было работать не отвлекаясь; но только это должно сделаться без его просьбы, как добровольный знак признания, — нестерпимо ему прийти и ударить себя в грудь: «Я композитор Варламов, а потому дайте мне то, чего другим людям, некомпозиторам, не дают!» Да, предложили бы сами — он бы принял, но просить — нестерпимо! А подпись на объявлении равнозначна такой просьбе: «Если бы собаку украли у кого другого, можно и не возвращать, но раз у композитора — то уж верните!»
Хотел было Филипп сразу сорвать объявление с недопустимой подписью — и не сорвал. Потому что если бы сорвал — уменьшил бы шансы найти Рыжу: пока он будет писать другое объявление, именно в этот момент:.;ежет пройти мимо тот единственный, кто знает, где Рыжа! Нет, надо наоборот: сначала пойти домой, написать другое объявление — другие объявления, ведь Ксана расклеила несколько, — а потом идти и заменять. А кстати, что он не сорвал объявление сам, мало что меняет: их срывают и без него; на собственной парадной он заметил клочок — остаток Ксаниного объявления.
Филипп вернулся — и не бросился сразу же писать правильные объявления, а сел завтракать. Слегка поел, сам себе сварил кофе — вспоминая рассказы Лиды Пузановой, как ее Ваня не умеет сварить себе чашку кофе, — и принялся за работу. Объявлениями пусть займется Ксана. В конце концов, он должен работать, а не писать и перевешивать объявления. Если сумела потерять Рыжу, пусть хоть напишет как следует объявления!
Он сел за рояль. Ксана позернулась, посмотрела на мужа, пробормотала:
— Где-то наша Рыженька? Где собаченька? Надо идти искать… — и снова задремала.
Вот именно: надо идти искать! Какой-то паралич воли у человека.
Филипп работал — и, ожесточаясь на безволие Ксаны, бил по клавишам сильнее, чем следовало. А она еще несколько раз# почти просыпалась, что-то бормотала, снова поворачивалась на другой бок — и проснулась окончательно не раньше чем в половине первого. Половине первого! Дня! Как когда-то говорили: пополудни!
Но это еще не значит, что встала. Теперь она делала гимнастику — ту часть, которая делается лежа. Она вытягивалась, прогибалась, при этом что-то щелкало, потрескивало. Особенный костяной треск получался, когда Ксана двигала нижней челюстью, — точно челюсть у нее вставная… Нужен Филиппу отдельный кабинет, неужели непонятно, как нужен?! Чтобы работать в одиночестве, чтобы не приходилось выводить мелодию под аккомпанемент вставания жены!..
Наконец она пошла умываться. А он почти ничего не сделал с утра: больше злился за роялем, чем работал. И ведь еще не говорил ей, что нужно переделывать объявления, — а сколько по этому поводу возникнет разговоров! Еще не было случая, чтобы она признала, что сделала что-то не так. Ксана начнет объяснять и доказывать, что написано правильно, — противореча в каждой фразе не только ему, но и себе самой…
А где же сейчас Рыжа?! Что с ней?!
Как стыдно: он пытается работать, злится на Ксану — и забыл думать о Рыже: где она, да и жива ли?! Полезли в голову все ужасы, которые рассказывают про мучителей собак.
Филипп продолжал сидеть за роялем, но работать не мог.
Вернулась в комнату Ксана, сказала, адресуясь, естественно, к Филиппу, потому что больше никого в комнате не было, но как бы обращаясь в пространство, безлично:
— Потому что сил никаких не осталось, потому и не встать.
Нашла о чем говорить сейчас! А она продолжала так же в пространство:
— Если каждую минуту потеешь и сразу просквозит, откуда быть здоровью?
Говорила она таким тоном, будто Филипп виноват в ее болезнях. Да, больна, но сколько людей стесняются своих болезней, стараются скрыть, не побеспокоить близких, а она размахивает болезнью, как флагом. Вспомнить хотя бы мать: уже согнуло ее пополам, но нельзя было представить себе, чтобы она не встала в три часа утра приготовить отцу завтрак, когда ему на смену!.. Ну вот, Филипп снова забыл о Рыже, отвлеченный нытьем жены. Но молчал — а то разговоры пойдут без конца. Но она не молчала: