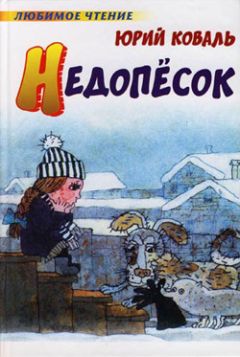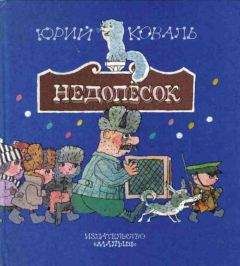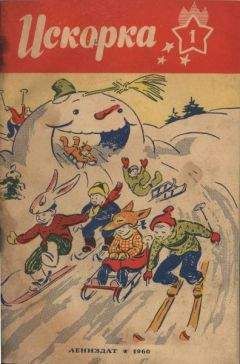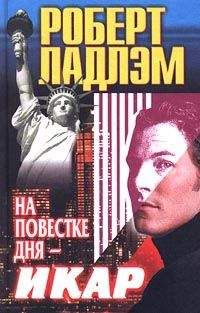Икар из Пичугино тож - Хилимов Юрий Викторович
Праздник открытия летнего сезона всегда был стихийным и, в отличие, скажем, от празднования Дня летнего солнцестояния, никогда не имел строгого регламента. Его общий ход, сложившийся за многие годы, заключался в том, что в первое воскресенье мая все дачники обязательно приезжали на свои участки, работали у себя до обеда, а затем начинали пировать. Для этого за бетонку выносились столы, ставились в квадрат и заполнялись привезенными из городских кухонь дачников угощениями. Это походило на настоящий форум или базар — шумный, многоголосый, задорный. После зимы нужно было обменяться новостями и поделиться планами. И так хорошо, что еще никто не надоел, что кто-то еще почти не раздражает, а кому-то, сильно соскучившись, радуешься, как ребенок.
Накануне Митя загорелся идеей сделать капустник. Что сидеть просто так? Наевшись и наговорившись, можно и поиграть. Все привыкли, что порой он брал на себя роль тамады и придумывал что-нибудь эдакое. Отец его всегда клевал за это, дескать, «десакрализация театра», «растрачивание таланта». «Что тебе, театра на работе не хватает?» — ворчал он. А Мите, да, не хватало. Быть вторым не хотелось, ждать не хотелось, хотелось самому все решать, пусть хоть так.
Вот и в этом году он взял на себя инициативу. День выдался солнечный, но немного прохладный. В дачный поселок приехало много народу. Было видно, как на утес то и дело заезжают машины, чтобы полюбоваться видами. Сергей Иванович по этому поводу хмурил брови и ворчал, что эти «любители красот» скоро вытопчут макушку горы и «сделают ее совсем лысой, как мой череп». «Надо с Пасечником шлагбаум поставить», — сказал он в ответ на предложение Геры взимать с чужаков экологический сбор.
Утром Мите пришла идея использовать реквизит в капустнике, но в доме под рукой не было ничего интересного. В таких случаях всегда выручала костюмерная Летнего театра. Ну как костюмерная? Конечно, строго говоря, ее нельзя было так назвать. К эстраде примыкали две пристройки: гримерная, разделенная ширмой на мужскую и женскую половины (откуда сразу был выход на сцену), и собственно костюмерная, похожая на большой чулан, сверху донизу забитый всякой всячиной. Кроме нескольких старых бальных платьев, камзола, треуголки, плаща с капюшоном, фрака и еще нескольких национальных костюмов здесь было кое-что из реквизита. Тут среди бутафорских яблок и груш, фужеров, шпаг, подсвечника, распятия, двух корон и пиратского сундука можно было отыскать что-нибудь интересное. Как у главного режиссера Летнего театра, у Мити был ключ. Это давало заметное преимущество Шестнадцатой улице во время проведения праздников и дней рождения, которым ее жители охотно пользовались.
Летний театр находился в парке, то есть в самом конце дачного поселка. Он идеально вписался в парковый ландшафт, став его неотъемлемой декоративной частью. Ему было здесь просторно, удаленность от дач не создавала для их обитателей неудобств от музыки и звуковых спецэффектов. Мите нравилась здешняя пустынность. Он любил в этих местах гулять и с Соней, и в одиночестве, чтобы подумать о спектакле, который он когда-нибудь поставит в качестве главного режиссера. Эстрада порядочно обветшала, нужно было тормошить правление, чтобы сделать хотя бы небольшой ремонт, но Митя оттягивал этот момент. Ему нравилось такая эстетика. Она напоминала любимый мультфильм Норштейна «Цапля и журавль», декорациями которой стала заброшенная беседка. «Я безнадежный меланхолик, — любил про себя говорить Митя. — Люблю осенние дожди и дряхлеющие усадьбы». Однако он любил не только их. Когда Митя оказывался в крупных городах (особенно за границей), часто он посещал старое кладбище, где уже давно никого не хоронили. Там в надгробиях еще прочитывались старинные истории и слышались элегии, было грустно, но возвышенно. «Ты знаешь, что ты извращенец?» — любила подшучивать над мужем Соня. Митя не спорил. Что спорить, если и впрямь его пристрастие несколько выходило за границы нормального. И театр, который он так любил, — он ведь тоже выходил за известные пределы, а смерть и есть, в сущности, переступание за любую черту, проведенную хоть мелом Хомы Брута, хоть кулисами.
Когда Митя подходил к Летнему театру, заметил каких-то людей на сцене. Двое парней по-хозяйски расхаживали взад и вперед, а двое других крутились около дверей гримерки и костюмерной. Один из них наклонился, пытаясь рассмотреть в замочной скважине, что находится по ту сторону.
— Что вы хотели, ребята? — спросил Митя.
Мужчина почувствовал недоброе. Опасность он всегда хорошо ощущал. Тотчас в животе возникала какая-то пустота, как будто там что-то проваливалось, образуя огромную пещеру, по которой гулким эхом разносились страшные хтонические голоса. В нем одновременно нарастали страх и гнев, адское сочетание которых всегда давало непредсказуемый эффект, но больше разрушительный для своего носителя, чем для тех, кто являлся тому причиной. Эти два мощных чувства схлестывались в титанической битве, угрожая миру разлететься на куски.
Незнакомец с головой в форме дыни повернулся назад:
— А ты чё, главный тут?
— Что касается театра, то да.
— И чё?
— Дай мне пройти.
Дынеголовый не шелохнулся. Митя попытался его подвинуть, но ничего не вышло. Тот хоть и худощавый, но стоял крепко. Воротынский хотел было повторить усилия, однако в тот же самый миг оказался сбит с ног. Что-то сзади резко опрокинуло его и бросило вниз. Сердце выпрыгивало из груди, Митя подумал, что сейчас будут бить ногами. Однажды зимой с ним уже случалось подобное: тогда его отлупили без всякой причины, и страницы пьесы, которую он нес с собой, разлетелись вокруг. Тогда он сумел сгруппироваться, поэтому удары пришлись только по рукам и спине, а потом быстро вскочил и убежал, глотая слезы от стыда за трусость. Митя добежал до полицейских, чтобы вместе с ними вернуться и забрать пьесу. Он нашел ее в мусорном ведре местной забегаловки. Обидчик не побрезговал собрать листы, чтобы избавиться от улик.
После Соня говорила, будто что-то предчувствовала. Митя оставил телефон на даче. Ему позвонили из театра по важному вопросу, и нужно было в течение четверти часа дать ответ. А мужчина мог серьезно застрять в костюмерной. В конце концов, ему нужно было проверить театр после зимы, хорошо ли тот перезимовал. Поэтому Соня решила сама отнести мужу телефон. Она шла и думала, что сегодня вечером испечет шарлотку, а потом они посмотрят какое-нибудь хорошее кино, а после, возможно, займутся любовью. Она широко улыбалась, представляя, каким может быть сегодняшний вечер. Но радостное выражение лица быстро сошло на нет, когда Соня увидела свою подругу детства Таньку, у которой здесь тоже была дача. Та бежала к ней навстречу.
— Я как раз к тебе. Твоего лупят в Летнем театре какие-то незнакомые типы, — хватая ртом воздух, протараторила она.
— Что?
— Да, да, не стой.
Забыв, что у нее в руках телефон, Соня было бросилась к Летнему театру, но ее окликнула знакомая:
— Да куда ты собралась? Беги за подмогой к своим. Я хотела сама позвать кого-нибудь, но тут рядом были в основном бабы да дети. А сама я никогда не встреваю, когда мужики дерутся.
Митю не били ногами. Ему позволили встать, чтобы плотно обступить со всех сторон. Дынеголовый, коротышка, верзила и еще один неприятный сипатый тип, похожий то ли на зэка, то ли на вертухая.
— Ключи давай, — приказал сипатый.
— Нет, — ответил Митя. Он услышал свой голос словно со стороны, вздрогнул, потому что не узнал его — таким чужим он казался. Митю приятно удивило, что в нем не было никакой дрожи, ни малейшего признака паники или неуверенности, и это притом, что его внутренние Помпеи вовсю засыпало пеплом животного страха.
Сипатый усмехнулся и повернулся к коротышке:
— Нет, ну ты посмотри на него, прям театральный петух!
Все четверо громко заржали.
Все произошло очень быстро. Щеку Мити обожгла пощечина, которую ему отвесил сипатый. Компания снова громко заржала. Митя не шелохнулся, только густо покраснел от еле сдерживаемых эмоций.