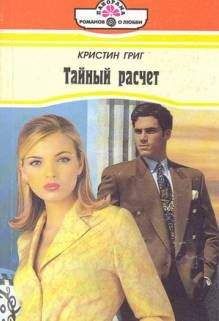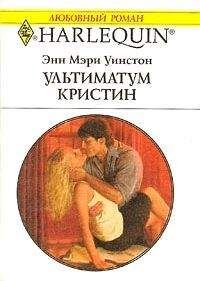Маргарет Этвуд - Пожирательница грехов
— Мои грехи, — говорит Джозеф. У него грустный голос, но я поднимаю глаза и вижу, что он улыбается. Он что, шутит?
Я снова смотрю на тарелку. На миг я впадаю в панику: я же не это заказывала, это слишком, меня стошнит. Вернуть? Но я знаю, что это невозможно.
И тут я вспоминаю, что Джозеф умер. Тарелка растет и надвигается, и нет уже никакого стола, и вокруг нас черный космос. Тысячи полумесяцев и тысячи звездочек. Я протягиваю руку, и звезды вспыхивают.
Подарить жизнь
Но кто дарит? И кому? И разве это дарение — плавное, нежное, без насилия? Какая же тут нежность: слишком много напряжения, нутро — как стиснутый кулак, тяжело колотится сердце, и все мышцы напряжены и ходят под кожей, словно в замедленной съемке, ты прыгаешь в воду с высокого трамплина, и безликое тельце подплывает, разворачивается, замирает на мгновение в воздухе, а потом — обратно в реальность — толчок, рывок вниз, результат. Подарить жизнь. Может, эту фразу придумали только с расчетом на результат? Тогда воображению рисуются ряды младенцев в комнате за стеклянной стеной: младенцам дарована жизнь, и они лежат аккуратными свертками, со знанием дела спеленатые в одеяльца, розовые или голубые, в пластиковых прозрачных кроватках, и в изголовье скотчем прилеплен ярлык с именем.
Никогда не говорят: подарить смерть, хотя в какой-то мере и первое, и второе одно и то же — все суть события, а не предметы. Или, например, помогать разрешиться от бремени: так говорят про врача — кто что разрешает, что за бремя? Врач разрешает матери освободиться от бремени, словно из тюрьмы? Конечно, нет; и ребенок — не бремя, и ничего ему не разрешают. Ибо врач — не воспитатель, и мать — не воспитанница. Разве кем-то командовали, разве кто-то обременял? И потому язык, это архаичное бормотание, тоже требуется переназвать.
Но этим займусь не я. Мне не подобрать других слов, я застряла тут с ними, застряла в них. (Представляется нефтеносный песок — древний пейзаж в Королевском музее Онтарио, второй этаж, северная сторона. Какой довлеющий пейзаж: вырвусь ли я на волю, или меня затянет вниз, окаменелость, саблезубый тигр, эта громада бронтозавр — кара за отвагу. Слова журчат у ног, черные, вялые, смертельные. Позвольте еще раз, пока солнце не забрало меня, пока я не утонула, не умерла от голода, пока могу. Впрочем, это просто пейзаж, метафора. Видите, я говорю, я не поймана в капкан, и вы меня понимаете. Вот и продолжим, будто нет никаких проблем с языком.)
Эта история о том, как подарили жизнь, — не про меня. Чтобы вас убедить, скажу, чем занималась утром, прежде чем сесть за этот рабочий стол: на двух картотечных шкафчиках уложена дверь, это мой стол. Радио по левую руку, по правую календарь — все это средства, которыми я закрепляю себя во времени. Я встала без двадцати семь и, спускаясь по лестнице, увидела свою дочку. Она считала, что парит в воздухе — вообще-то папа нес ее на руках. Мы поприветствовали друг друга, обнялись, улыбнулись. А потом играли в постели с будильником и грелкой — мы любим так делать, если рано утром ее папе надо уехать. Этот ритуал — ради иллюзии, будто я еще сплю. Когда же дочка наконец решила, что пора вставать, она принялась таскать меня за волосы. Я оделась, а она изучала напольные весы в ванной и таинственный белый алтарь унитаза. Я отнесла ее вниз, и мы, как обычно, с боем оделись. Дочка уже носит крошечные джинсы и футболки. После этого она сама поела: апельсин, банан, оладья, каша.
А потом мы вышли на залитое солнцем крыльцо и узнавали все заново по именам: кошек, собаку, птиц, — синих соек и щеглов, время года такое — зима. Я говорю, а дочка держит пальчик на моих губах: она еще не познала секрета создания слов. Я жду ее первого слова: оно будет чудесно, слово, какое не говорилось никогда. А если чудо быть может, она уже сказала это слово, а я в своей скованности, в своем пристрастии к обычному, просто не услышала.
Сегодня я заглянула в ее манеж и испугалась. Там лежала маленькая голая женщина, из такого мягкого пластика: знаете, как пауки и ящерицы, которых вешают на лобовое стекло? Куклу подарила дочери моя знакомая, она делает реквизит для кино, и эта кукла должна была стать реквизитом, но не пригодилась. Дочке нравилась кукла, малышка ползала по полу, держа ее во рту, как собачка с костью, с одной стороны торчала голова, с другой ноги. Кукла казалась мягкой и безобидной, но вчера я увидела, что мой ребенок своими первыми зубками прокусил в ней дырку. И я убрала женщину в картонную коробку для игрушек.
Но сегодня утром кукла снова оказалась в манеже, только без ног. Видимо, дочка съела ноги, и я беспокоилась, переварится ли пластик, не токсичен ли. Рано или поздно, рассматривая подгузники, как всякая мать-наседка, я обнаружу там две крошечные розовые ступни. Я убрала куклу, и пока моя дочь распевала из окна песни для собаки, я выбросила куклу на помойку. А то дело кончится уродливым и безумным убийством: куклины части тела вперемешку с плохо переваренной морковкой да изюмом.
Теперь у дочки дневной сон, и я пишу этот рассказ. Из того, что я вам поведала, можно заключить, что жизнь моя (кроме внезапных сюрпризов, напоминаний о внешнем мире) спокойна и размеренна, пронизана теплым красноватым светом, полна голубых бликов и солнечных зайчиков на плоскостях (зеркала, тарелки, оконные стекла) — как голландская живопись; и как голландская живопись, она реалистична и чуточку сентиментальна. Во всяком случае, в ней есть намек на сентиментальность. (Я уже проживаю мгновения тихой печали, взирая на дочкину одежду, из которой она выросла. Я буду хранить локоны в шкатулках, я буду прятать старые вещи в сундуках, я буду рыдать над фотографиями.) Но главное, моя жизнь надежна, все здесь надежно. Никаких размывов света, смен настроений, туманных облаков, Тернеровских[39] закатов, смутных страхов — всех этих призраков, что так заботили Джини.
Я назвала эту женщину Джини из-за песни. Слов не помню, только название. Помню суть (ибо в языке — и в этом его богатство, — всегда существует “суть”, отражения, и они прилипают к нёбу, и потому столько нас кануло под темным сверкающим покровом языка, и потому не ищите в языке свое отражение. Наклонишься слишком низко, и упадет прядь волос, и возвратится, окажется золотой, и думая, что там, в глубине, все золото, последуешь за ней, соскальзывая в распростертые руки, потянешься к губам, что, кажется, раскрылись, дабы произнести твое имя, но прежде чем слух твой наполнится чистейшим звуком, они вылепят слово, никогда прежде не слышанное…)
Для меня суть — в цвете волос. Мои волосы не каштановые, как у Джини. В этом одно из отличий. Другое отличие — в грезах: она не реальна, как реальна я. Но на мгновение — я имею в виду ваше мгновение, — мы обе, и Джини, и я, станем одинаково реальными, мы станем равны: станем видением, эхом, откликом в вашем сознании. А в мое мгновение Джини для меня такая же, какой я буду для вас. Так что Джини довольно реальна.