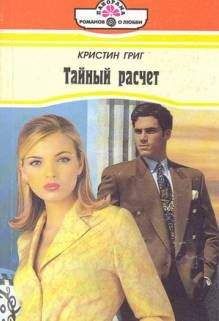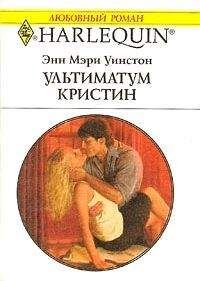Маргарет Этвуд - Пожирательница грехов
— Он не упал с дерева, — шепчет она.
— Простите?
У всех трех жен есть одно родовое сходство: они все светленькие и расплываются — но в этой чувствуется что — то еще, эдакий блеск в глазах. Может, горе, а может, Джозеф не проводил границ между профессиональной и личной жизнью. Во второй жене есть что-то болезненное.
— Он не был счастлив, — говорит она. — Я знаю. Мы, знаете ли, оставались очень дружны.
То есть она намекает, что Джозеф спрыгнул с дерева.
— Мне он казался вполне счастливым, — говорю я.
— Он всегда умел держаться, — констатирует жена. Она делает глубокий вдох и, наверное, хочет пооткровенничать, но мне этого не надо. Я хочу, чтобы Джозеф оставался, каким он был для меня: спокойным, талантливым, мудрым и вменяемым. Мне не нужны его темные стороны.
Я возвращаюсь в свою квартиру. Сыновья уехали на выходные. Пожалуй, обойдусь без ужина. Ни к чему. Я брожу по тесной гостиной, подбираю вещи. Вещей мужа здесь больше нет: как и полагается полуразведенному, он тут не живет.
Один сын уже бреется, второй еще нет, но оба, проходя через гостиную, оставляют следы: грязные носки, книжки, которые читают в ванной, откусанные бутерброды. В последнее время появились и окурки.
Под грязной футболкой я обнаруживаю журнал “Харе Кришна”: неделю назад его принес младший сын. Я испугалась, что на него напал юношеский религиозный фанатизм, но оказалось, нет: он купил журнал у кришнаитов за четвертак, потому что ему их стало жалко. Когда он был маленький, хоронил и оплакивал мертвых птичек. Я смотрю на обложку журнала: Кришна в окружении восторженных девушек играет на флейте. Лицо у Кришны яркосинее, как у трупа: все-таки у них совсем другая культура.
Если читать дальше, узнаю, почему секс и мясо вредны для человека. Не такая уж плохая идея, если вдуматься: ни тебе разводов, ни пуганых коров. Сплошное воздержание и молитвы. Я представляю, как стою на углу, на мне балахон, и я звеню колокольчиком. Отстраненная, свободная от греха. Этот мир есть грех, говорит Кришна. Этот мир — все, что у нас есть, говорит Джозеф. Все, что есть в твоем распоряжении. И больше ничего. Тебя не спасут.
Можно спуститься в ресторанчик, можно заказать пиццу. Я выбираю пиццу.
— Я тебе нравлюсь? — спрашивает меня Джозеф из своего кресла.
— В каком смысле? — говорю я. Мы только начали, я над этим вообще не задумывалась.
— Так нравлюсь или нет? — спрашивает он.
— Послушайте, — говорю я. Говорю спокойно, но на самом деле я в бешенстве. Это претензия, а Джозеф не может предъявлять мне претензий. Мне и так их уже слишком много предъявляли, потому я и здесь, разве нет? Потому что спрос превысил предложение. — Вы для меня как зубной врач, — говорю я. — И я же не задумываюсь, нравится ли мне зубной врач. Я не обязана его любить. Я плачу ему, чтобы он лечил мне зубы. Вы и мой дантист — единственные люди на всем белом свете, которых я не обязана любить.
— Но если бы ты меня встретила при других обстоятельствах, ты бы смогла меня полюбить?
— Представления не имею, — говорю я. — Не могу себе представить других обстоятельств.
Это ночная комната, пусто в ночи, не считая меня самой. По потолку ползет луч от машины. Квартира на первом этаже: не люблю высоту. Прежде я всегда жила в отдельном доме.
Мне приснился Джозеф. Его никогда не интересовали сны. Вначале я запоминала сны и ему рассказывала, но он отказывался их трактовать. Заставлял меня трактовать самой. Джозеф считал, бодрствование гораздо важнее сна. Он хотел, чтобы я не спала, а жила реальной жизнью.
И тем не менее мне приснился Джозеф. В первый раз после своей смерти. Думаю, он порадуется, что прорвался сквозь мои сны про накрытый стол, где всегда не хватает одной тарелки. А потом я вспоминаю, что его уже нет и рассказать некому. Наконец я осознала свое сиротство: Джозефа нет, и рассказать некому. Никого не осталось в жизни, чтобы просто молча меня выслушать.
Я в аэропорту, зал ожидания. Вылет задерживается, все вылеты задерживаются, может, забастовка, зал набит битком, и все ходят туда-сюда. Некоторые расстроены, дети плачут, иные женщины тоже плачут, кто-то кого-то потерял, и люди снуют в толпе и зовут кого-то по имени, но по углам собрались горстки мужчин и женщин, они смеются и поют: они словно предчувствовали, и принесли с собой упаковки с пивом, и теперь его распивают. Я подхожу к справочному окну, но там никого нет. И тут я вспоминаю, что забыла дома паспорт. Я решаю съездить на такси, а к тому времени, когда вернусь, глядишь, все нормализуется.
Я проталкиваюсь к выходу, но кто-то машет мне в толпе над головами. Это Джозеф. Я совсем не удивлена, только недоумеваю, отчего он в зимнем пальто, потому что на дворе по-прежнему лето. Он в шапке, шея обмотана желтым шарфом. Я никогда этих тряпок не видела. Конечно, думаю я, ему холодно: но он уже протолкался через толпу и стоит подле меня. На нем толстые кожаные перчатки, и он снимает одну, чтобы со мной поздороваться. Рука у него ярко-синяя, синяя, как темпера, синяя, как на обложке того журнала. Я колеблюсь, а потом мы здороваемся, а он никак не выпустит мою руку, и смотрит на меня доверительно, смотрит, как ребенок, улыбается, точно мы долго не виделись.
— Я рад, что пригласили тебя, — говорит он.
И ведет меня к двери. В зале уже меньше народу. С одной стороны — прилавок, там продают апельсиновый сок, а за прилавком стоят три жены Джозефа, в одинаковых костюмах, в белых шляпах и фартучках с рюшами — словно официантки из сороковых. Мы проходим через дверь: в зале за круглыми столиками сидят люди, хотя на столиках ничего нет, люди словно ждут чего-то.
Я сажусь за столик, Джозеф садится напротив. Он не снимает ни шляпы, ни пальто, но положил руки на стол, уже без перчаток, руки снова обычного цвета. Позади нас стоит какой-то человек, он будто хочет что-то сказать. Он протягивает нам карточку, на ней — дактильная азбука. Глухонемой, догадываюсь я. И точно: рот мужчины зашит намертво. Он трогает Джозефа за рукав, протягивает Джозефу что-то, большой желтый цветок. Но Джозеф не видит.
— Посмотри же, — говорю я Джозефу, но глухонемой исчез, и вместо него подошла одна из трех официанток. Мне не нравится, что нас прерывают, у нас так мало времени, я хочу так много сказать Джозефу, через минуту улетит самолет, и в соседнем зале надтреснутый голос объявляет посадку, но официантка вклинивается между нами, услужливо улыбается. Это первая жена: она молча ставит на стол тарелку. Две остальные жены молча стоят сзади.
— Больше ничего не желаете? — говорит первая жена и удаляется.
На тарелке печенье, как с детского праздника, — белое, фигурное, полумесяцы и звездочки, сверху — серебристое драже и цветные цукаты. Жирное такое печенье.