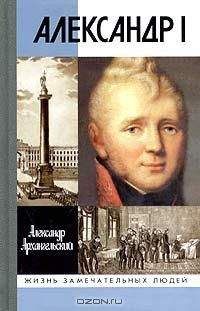Виктор Лихачев - Единственный крест
— Стихи какие-то в памяти остались?
— Стихи? Ты знаешь, только четыре строчки:
Донниковое поле,
Донниковая грусть,
Донниковое море,
Донниковая Русь.
— И все?
— И все.
— Странные стихи.
— Ты думаешь? Я однажды видел поле, в котором цвел донник. Желтый и белый. Донника на самом деле было море. Ветер колыхал цветки и стебли и, казалось, воны накатываются на берег…
— И чем все закончилось?
— Кажется, он умер.
— Ты так об этом спокойно сказал.
— Лиза, я же тебе о сне рассказываю. Да и не спокойствие это, а грусть. Жил человек, любил, мечтал, страдал…
— Бедный ты, Сидорин, — неожиданно сказала Лиза.
— Считаешь?
— Конечно. Ты с ними прожил жизнь. Их жизнь. Но скажи, на следующий день тебе снятся уже другие люди?
— Другие. И история другая, но с похожими сценариями. Начало жизни — надежда, радость, если даже за столом хлеб из лебеды. Затем будни, как правило, серые. И в конце — мрак, темнота. Конец.
— Но ведь ты видел свет, когда умирал мальчик?
— Видел, но не уверен, что его видели те люди.
— Асинкрит!
— Аюшки? — откликнулся Сидорин.
Толстикова молчала.
— Лиза, ты хотела что-то сказать?
Девушка очнулась.
— Мне кажется… Это всего лишь догадка…
— Слушаю.
— А все эти сны… не связаны они с теми старыми фотографиями, что ты собираешь? Мне Галина рассказала…
— Понимаю. Ты умница, Елизавета Михайловна.
— Смеешься?
— Отнюдь.
Сидорин полез в карман.
— Моя история не закончена. Каждый вечер я просматриваю эти снимки. А вчера наткнулся… Впрочем, посмотри сама.
И Асинкрит протянул Лизе черно-белую фотографию. На ней были изображены двое молодых людей — мужчина и женщина, ребенок и еще одна женщина — пожилая. Люди сидели, серьезно смотря в объектив. Подпись на обороте: 15 октября 1958 г.
— Это они, — сказал тихо Сидорин.
— Что?
— Это они, Лиза. Те люди. Забавно, знаю все об их жизни, но не знаю ни имен, ни фамилии. Кроме Катерины, конечно.
— Катерина — жена поэта?
— Правильно.
— На руках у нее… тот самый мальчик?
— Да, ему здесь годика три.
— А когда он умрет?
— Через два года.
— Ох, Господи! А это… тот самый поэт?
Асинкриту понравилось, что в словах Лизы не было насмешки.
— Спасибо тебе. Говорю от имени этого парня.
— За что?
— Четыре строчки и сохранилось, а ты сказала — поэт.
— Но ведь поэт — это не количество изданных книг, а особый взгляд на мир и особое состояние души.
— Согласен.
— Эх, жаль, — вдруг сокрушенно вздохнула Лиза.
— Что именно?
— Красивая получилась история. Но уж слишком необычная. А если все эти люди живы по сей день? Если живут они припеваючи где-нибудь в Сибири? Кстати, а как к тебе попал этот снимок?
— Один человек подарил. В каком-то сарае нашел альбом, но как нашел, так и потерял. Остался только один снимок… Понимаешь, Лиза, я ведь и не спорю с тобой. Просто рассказал, что было. Можно, конечно, идти к психиатру…
— Не надо к психиатру, Асинкрит. Я знаю, что ты должен делать.
— Интересно.
— Миша, муж мой, похоронен на кладбище, в Дальней слободке.
— Это, кажется, самая окраина города?
— Скорее деревня. При кладбище есть церквушка. Много лет в ней был настоятелем отец Николай. Сейчас ему за восемьдесят, он уже не служит, но живет в домике при церкви.
— На кладбище?
— Что в этом такого? Он удивительный человек.
— Я тебя понял, но спасибо, не надо.
— Что — не надо?
— Не пойду я к нему. Видел я одного старца. Только, бедный, вышел, к нему человек тридцать, в основном женщины, как бросятся. Жуткая картина. Он от них отмахивается, а люди эти… Впрочем, не буду их осуждать, но сам в такой толпе стоять не буду.
— Толпы не будет. Отец Николай не считает себя старцем. И его не считают. Живет тихо и скромно. Сходи, ничего не потеряешь.
— А как ты с ним познакомилась?
— Сидела, как обычно, на Мишиной могилке. Подошел отец Николай, что-то сказал — самые обычные слова, а на душе легче стало. Мудрый он, вот увидишь.
— А когда к нему можно будет поехать?
— Да хоть завтра. В смысле — сегодня. Между прочим, сейчас половина пятого.
— Кажется, мы заговорились. Спокойной ночи?
Они засмеялись. И вскоре на кухне воцарился мрак. Только по-прежнему продолжали тикать неутомимые ходики, да гордо топорщил свой горячий носик чайник.
Глава двадцать восьмая.
Отец Николай.
То ли домик, то ли сторожка. Крошечный огородик — грядка лука, несколько кустов смородины, цветы — красные, белые и розовые на высоких зеленых стеблях. Деревенский люд из далекого сидоринского детства простодушно называл их розами. Интересно, подумалось Асинкриту, а почему он это помнит? Ведь не из книг же…
Уже с полчаса, как Лиза вошла в этот домик — подготовить отца Николая к встрече с Сидориным. «Это кого еще надо готовить» — ворчал Асинкрит. Он уже успел походить по тихому кладбищу, поглазеть на большую лягушку, гордо восседавшую возле старенькой, видавшей виды, лейки. А вот у Лизы душа в эти минуты была не на месте. Самонадеянно пообещав ночью Асинкриту встречу с отцом Николаем, Толстикова только днем вспомнила о том, что старый священник всячески избегал внимания к собственной персоне. Церковный народ его любил, но считал странным. Нецерковный люд, живший в окрестностях кладбищенского храма, не таясь, называл отца Николая чокнутым. В самом деле, будет ли нормальный человек, да еще священник называть себя «консервной банкой»? Мол, когда лежит пустая консервная банка и на нее светит солнце, она здорово блестит на солнце. Будто золотая. И есть, к сожалению, люди, которые относятся к нему, как к золоту, хотя он — всего лишь старая консервная банка.
Лиза же была уверена, что отец Николай — самый что ни на есть настоящий старец, просто прячущий от людей свою мудрость.
К счастью, отец Николай оказался дома. Он сидел на маленьком стульчике и — в это невозможно было поверить — смотрел по старенькому черно-белому телевизору гонки «Формулы-1».
— Заходи, добрая душа, — оторвавшись на секунду от экрана, поприветствовал Толстикову священник. — Вижу, по делу пришла. Будь добра, подожди немного — гонки скоро закончатся
— А я и не знала, отец Николай, что вы их любите.
— Я тоже де сегодняшнего дня об этом не знал. Вчера один хороший человек принес телевизор. Не взять неудобно — от сердца подарок. А вот включил, и сразу вспомнил, как после войны ко мне трофейный «Хорхь» попал, мотоцикл такой. Вот славная была машина. Зверь! По бездорожью я хорошо погонял в те годы.