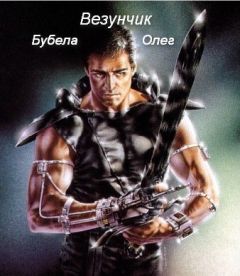Олег Рой - Капкан супружеской свободы
Он поднялся, бережно взял в ладони протянутую ею руку и вместо приветствия промолвил:
— Прошу вас, садитесь. Я очень рад вам, Эстель.
На самом ли деле так, мелькнула у него в голове шальная мысль? Рад ей — такой непонятной, такой чужой? Но Алексей не дал этой мысли завладеть своим сознанием и поинтересовался почти машинально:
— Что вам заказать?
— Только минеральную воду, пожалуйста. Я хотела сегодня показать вам д’Орсэ, но потом мне нужно будет вернуться на работу.
— Я не знал, что у нас в программе поход в музей, — удивился Алексей, немножко досадуя на то, что она распорядилась его временем без его ведома, и в то же время радуясь, что тема разговора образовалась сама собой.
— И еще вы не знали, что я работаю, не так ли? — слегка поддела его Эстель. Он кивнул, и она продолжила: — А между тем в нашей семье, представьте себе, не принято бездельничать. У меня свой собственный бизнес — туристическое агентство. Я принимаю туристов со всего мира, в том числе: русских, и показываю им Париж — лучшее, что есть в моей жизни, если не считать, конечно, Натали.
— Вы так любите свой город?
Она усмехнулась:
— Слава богу, что вы не спросили, люблю ли я свою дочь. Разумеется, да, Алеша…
Это уменьшительное имя вновь резануло Соколовского по сердцу — с такой же интонацией его, бывало, произносила Ксения, — и с непонятной тоской он вдруг подумал: да что я делаю здесь? Разве здесь мое место?
Тем временем юркий, моложавый официант принес красное вино для него и минеральную воду для Эстель, и они умолкли, ожидая, пока займут свое место на столе высокие стеклянные бокалы и пенящаяся жидкость — шипуче-прозрачная в одном из них и густо-красная, точно кровь, в другом — заполнит их до краев. Алексей увидел, как красиво и легко, словно в замедленном кадре, поднялась рука женщины, каким отточенным, плавным движением пальцы обхватили хрупкую ножку бокала, и поразился, насколько естественной при всей ее эффектности была внешность Эстель; она так гармонично вписывалась в любую обстановку, любое обрамление, что ей не нужна была красота в привычном понимании этого слова, вполне достаточно было одного жеста, и жест навсегда врезался в память, точно отпечаток раковины в древнем камне. Ему нравилось любоваться ею, но ее холодноватые манеры и чуть грустная, «закрывающаяся» от собеседника улыбка обескураживали его и не давали распахнуться навстречу.
— Расскажите мне о бабушке, — неожиданно для себя попросил он. — Давно ли она прикована к креслу?
— Давно. — Эстель спокойно отпила из бокала и поставила его на столик. — Пять лет назад, когда умер мой муж, ее разбил инсульт. С тех пор Наталья Кирилловна не может двигаться. Первое время она еще работала — диктовала мне новые главы своей последней книги, письма к знакомым издателям, даже строфы стихов… Но это не могло продолжаться долго.
— Конечно, ведь у вас много и других забот, — понимающе кивнул Алексей. — Но, может быть, если нанять секретаря?…
Изумленные холодные глаза обдали его призрачным зеленоватым светом.
— Дело не в моих заботах. Я бросила бы любые дела, если бы моя помощь нужна была Наталье Кирилловне. Просто чрезмерно интенсивная интеллектуальная деятельность теперь оказалась излишне утомительной для нее. — Во взгляде Эстель плеснули острые льдинки, и уничижительным тоном она добавила: — А что касается секретаря, то об этом не могло быть и речи. Ваша бабушка не стеснена в материальном смысле, расходы на секретаря для нее — пустяк, но дом для нее — слишком постоянная величина, чтобы она согласилась терпеть в нем кого-то временного.
— Я не хотел вас обидеть, — неловко извинился Алексей. И тут же сам бросился в атаку: — Однако вы сами отчасти виноваты в том, что я задаю столь бестактные вопросы. Ведь я почти ничего не знаю о вас. Ни о вас, ни о Натали, ни о собственной бабушке. Вы великодушно приняли меня в свой дом, как родного, но именно поэтому, наверное, так и не удосужились объяснить принятых в вашей семье порядков. Например…
Но тут он осекся, потому что вопросы, отчаянным вихрем вдруг закрутившиеся у него в голове, вовсе не походили на вежливые расспросы «о семье и о бабушке», которых, наверное, теперь ждали от него. Например, сколько вам лет, Эстель, мысленно закончил он свою мысль. И почему за пять лет, минувших со дня смерти вашего мужа, вы не вышли замуж? И есть ли у вас сейчас друг? И в самом ли деле вы так привязаны к вашей свекрови, как пытаетесь показать, или же у вас есть и другие мотивы, темные и двусмысленные, какими почти всегда бывают скрытые мотивы человеческого поведения?… Алексей знал, что не выговорит вслух ни одного из этих вопросов, однако каждый из них неожиданно показался ему жизненно важным.
А Эстель задумчиво смотрела на него, крутя одной рукой опустевший бокал, а другой безуспешно пытаясь справиться с непокорными, длинными прядями волос, которые ветер то и дело задувал ей на лицо, словно опуская непроницаемую завесу перед нескромными взглядами Алексея Соколовского.
— Но и я ведь тоже ничего не знаю о вашей семье, — тихо возразила она, и в ее устах слово «семья» вдруг непостижимым образом приобрело тот самый интимный смысл, который не решался придать ему Алексей. — Вы ничего не рассказали нам ни о последних, после Италии, событиях своей жизни, ни об учебе вашей Наташи, ни о своих отношениях с Ксенией…
Два этих имени, как всегда, захлестнули его сознание шквалом эмоций; он задохнулся в петле, перехватившей горло, и, не успев сообразить, что именно произносят его застывшие, как после заморозки, губы, неосознанно выдал обнаженную, горькую, ничем не прикрытую правду:
— Я совсем один, Эстель. Их больше нет. Они погибли в мае, во время научной экспедиции…
Дальнейшее все произошло в мгновение ока. Ее рука рванулась через столик навстречу его руке в извечном женском порыве помочь и утешить, широкий рукав пальто сбил с хрупкой ножки стеклянный бокал, и тонкое запястье женщины упало на острые стеклянные осколки. Кровь из небольшого, но глубокого пореза так и брызнула на стол, мешаясь с пролитым красным вином, и Соколовский, застывший было от неожиданности, вдруг совсем обезумел от вида этой крови. Потемневшие зеленые глаза смотрели на него с выражением боли и странной неги, мягкие губы улыбались ему беззащитной улыбкой, а он не видел, не замечал ничего, потому что, как сумасшедший, целовал и целовал это запястье, то прижимая его к лицу, то баюкая на груди ее раненую руку, точно то был его ребенок, пострадавший по его вине и ждущий спасения…
— Посмотри, — тихо позвала Эстель. — Ты где-нибудь еще видел такие оттенки малахита и бирюзы?