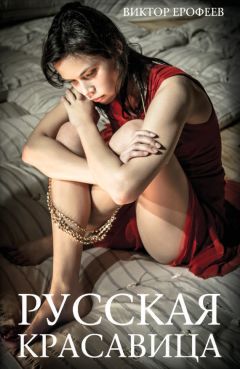Виктор Ерофеев - Русская красавица
- Ладно-ладно! Не ты один!
- Мы с тобой неразделимое целое, Жанна!
- Что? Какая Жанна? Вздор! Теперь я Жанна и еще невесть кто, а как трахнешь меня - опять за говно держать будешь! Знаю! Нетушки!
А он заявляет:
- Если будешь сопротивляться, я тебя придушу подушкой. Я сильный!
Посмотрела я на него. Он действительно сильный. Куда сильнее, чем был при жизни. Жилистый такой... Действительно, думаю, придушит... Что делать? Я говорю:
- Как тебе не стыдно? Пришел к больной женщине. Обещал ухаживать... У меня горло болит...
- Жанна, любимая!.. Я тебя так буду любить, что ты про горло думать забудешь!
- Не преувеличиваешь ли ты, - сомневаюсь, - свои возможности ?
- Сейчас, - говорит, - увидишь, - и клубный пиджак расстегивает.
- Погоди-погоди! Не спеши! Ты меня не соблазняй, понял? Все равно не соблазнишь! Я боюсь тебя, понял? Боюсь!!!
Он положил руку на одеяло со своими отвратительными ногтями и сквозь одеяло начинает мне ногу гладить, гладит, гладит, у меня глаза чуть из орбит не вылазят, а рука все выше, выше, выше. Смотрю: он уже лобок начинает гладить. Я говорю:
- Все равно ты меня не заведешь. Я с мертвыми не сплю!
А он ласкает меня и отвечает:
- Никакой я тебе, повторяю, не мертвый, а даже теплое существо. Потрогай руку.
И руку жилистую ко мне протягивает. Я невольно отдернулась.
- Вот еще! Руку щупать! Отчего это ты теплый? Может, снова ожил, а?
Он загадочно отвечает:
- Может...
То есть темнит, но я-то вижу, что он не человек, а кто-то другой, хотя руки теплые.
- А почему ногти у тебя такие? - задаю коварный вопрос.
- С ногтями, - говорит, - извини, ничего не поделаешь...
Ну, значит, не человек!
- Ты что, Леонардик, насильничать собрался? Не трожь меня!
А он:
- Ты меня убила.
А я:
- Так ты меня за это уже простил! Ты какой-то непоследовательный!
- Меня, - отвечает, - от желания распирает, а ты - про последовательность!..
Ну, что с ним делать? Вижу - не слажу. Я даже оттолкнуть его боюсь...
А он сидел, сидел - да как бросится! К лицу припал, к губам прижался, свой скверный язык мне сквозь зубы пропихивает, а руками за шею схватился, будто обнимает. Я стала дергаться, туда-сюда по кровати ногами ходить, теряя носки, только смотрю, он одеяло отбросил и рубашку мою к шее закручивает, за груди хватается, за ноги ловит. Я тогда, как уж, вывернулась, пусть лучше со спины, думаю, чтоб не видеть, ничком лежу и ноги не зажимаю, не то, думаю, он меня там всю разворотит и будут разрывы, и бормочу:
- Ты чего, Леонардик! Ты чего! Сумасшедший! Ты же умер!
Так я бормочу и ноги на всякий случай не сжимаю, ну, будь что будет, только, шепчу, не убивай! я еще жить немножечко хочу!.. Ой!
Никогда при жизни храбрецом Леонардик не был, на подвиги не тянул, и долго, бывало, возилась я с ним, раздувая потухший, сырой костер, ой, буквально часами дуешь-дуешь, а все без толку, покуда из искры... такая тоска!.. ой! а здесь, смотрю, дело складывается по-иному, насел, груди руками сдавил, и не так, как прежде, слюняво, страдательно, а крепко, даже, может быть, чуточку крепче, чем надо, то есть именно так, как надо, сдавил, весь выпрямился и пошел! пошел! Я думаю: ну, вот! ну, вот сейчас!.. Однако не тут-то было... И мне самой даже интересно: вот, думаю, какие превращения, кто бы мог подумать! А он вдобавок что-то бормочет, вроде бы как: девочка ты моя, Жанночка любимая, то есть в роль вошел, вообразил невесть что и от этого еще больше распалился. Славно наяривает! Господи, думаю, это ж надо такое! Сначала интеллектуальными беседами про Бога занимал, а потом, сбросив личину, взялся за дело, ой, только еще, ой, еще, Леонардик! Ой, как сладенько, ой! ой! ой! как вкусненько... милый!.. ой! Ай! Господи! Ой, а-а-а-а-а!!!
Я в подушку вцепилась, вгрызлась в подушку, ору. Кончила раз, другой, и снова забрало, забирает волнами, одна на другую набегает, тело прыгает. Боже ты мой! опомниться не дает, а у него - ну, лучше не придумаешь!.. И я стала визжать и кусаться, и из кожи лезть, подушу кусаю, а потом, чтобы себя совсем не растерять, палец большой в рот положила, сосу...
Господи, силы дай!.. а он дальше, и дальше, и дальше, он все больше разгоняется и несется, спасу нет! Нет спасу! Ой! Ай! Остановись! Нет, еще!..
То есть ТАКОЕ!
Кончаю за разом раз, уже ничего не понимаю, уже не знаю, что со мной, уже я вся свечусь, как жар-птица, уже меня нет, я вся там, и он со мной, и торжествует, и с какими-то замысловатыми невыносимыми вибрациями входит, как только Карлос умел, да и то не совсем, несмотря на парижский шик, только чувствую: ближе! ближе! Ой! Ору. Мамочка родная! Ой! А он все ближе и ближе и сейчас нас обоих не будет - Леонардик! - Жанночка! - в судорогах и слезах поплыла-поплыла - дернулась! - и СВЕРШИЛОСЬ.
21
Просыпаюсь от щебета птиц. Теплынь бабьего лета, и пузырятся белые тергалевые занавеси. Лежу поперек кровати, на животе, в обнимку с подушкой. На подушке бурые пятна, из подушки перья торчат, большой палец опух и наполовину откушен. Птицы поют. Одеяло на полу, рубашка порвана - вид в значительной мере растерзанный. Приподнялась и огляделась. Зеркало! Черная звезда. Гребешки и кремы в осколках.
Потерла лоб. Я даже позабыла, что ангина, но когда потерла, догадалась, что вроде бы спала температура, прочистила горло, и тоже - как будто не жжется, только меня это мало волнует: смотрю, я осталась жива. Ну, я встала, по привычке направилась в ванную, да вдруг, проходя коридор, где горел непогашенный свет, как все вспомню! - и прислонилась к стене, застонала, пот выступил, слабость... Постояла, постояла и поплелась в ванную.
Газоаппарат гудит. Выдавила я пасту, открыла рот, ощетинила зубы, и вся нелепость утреннего туалета предстала перед глазами. Босая, лохматая, с зубной щеткой в руке, я поняла Катюшу Минкову, мою школьную подружку из захолустья, которая под страшным секретом призналась мне на перемене в восьмом классе, мучаясь своей некрасотой, что она мечтает, чтобы у нее на боку была молния и чтобы однажды она расстегнула ее и вышла из себя, и все стало бы совсем по-иному.
Но отчего это, - подумала я, отложив в сторону щетку, - мне так окончательно неуютно? - И осенило: запах не тот! Ну, как вам сказать? Ну, как будто разорен мой бергамотовый сад - и сорваны - и гниют мои бергамоты... Такое отчетливое ощущение.
Ксюша! Ксюша!
Да только нет моей Ксюши, засела она в своем Фонтенбло, как отрезанный ломоть. Ну, я - куда звонить? - думаю. Не конвоирам же? А на дворе теплынь. Подумала-подумала, набираю телефон Мерзлякова, все-таки у нас с ним дружба. Подходит жена его, голос неласковый, я понимаю, что нельзя, но трубку не вешаю: - Здравствуйте! - говорю. - Позовите Виталия... - Он: - Алле! - А что мне ему сказать? Я говорю: - Витасик! Приезжай скорей! У меня беда! - Он помолчал немного и отвечает: - Значит, статья готова?.. Хорошо, я заеду. Заберу. Спасибо, Марина Львовна! - Меня подавило это убожество ухищрения. Я на грани жизни и смерти, а он: Марина Львовна... Я даже перезвонить хотела, чтобы не приезжал, но он приезжает, часа через два, а я провожу это время в томлении, и даже окно распахнула на всякий случай, впуская дворовую кутерьму, хотя днем они не должны появляться, но черт их разберет, коли они так свирепо трахаются! В рассуждении об этом балдею от ужаса. Но тут, слава Богу, он приезжает, с веселым лицом человека, случайно вырвавшегося в выходной день из семьи, чмокает в щечку и напускается с шуточными претензиями: как, мол, посмела звонить? Витасик, милый, ты прости: неотложность, а не каприз, мир запрокинулся, а сама вся дрожу. Он ко мне присмотрелся: что с тобой?! Он уже знал, что я мимо по полю пробежалась, ничего не вышло, а только поссорились. Ребята тебя целую ночь искали. Куда ты делась? Врут, что искали! Они уехали, говорю. Я у дороги сидела... Ничего... Добралась... Да нет, я почти здорова... Просто они озверели, когда я третий раз побежала, да ну их! это теперь неважно, теперь все неважно - вот - посмотри. Он смотрит: разбитое зеркало. Так. Это еще каким образом? Я зафинделила. В кого? В него. В кого именно? Ну, в него, в Леонардика. То есть во Владимира Сергеевича... Он приходил.