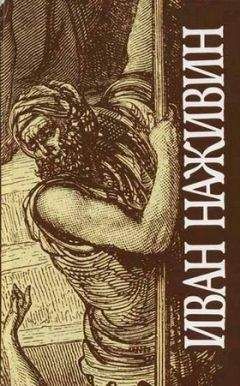Дидье Ковеларт - Евангелие от Джимми
Ким показала мне дисплей своего мобильника. Произошло невообразимое: на вопрос «Хотите ли вы, чтобы он отдал жизнь во искупление ваших грехов?» 65 процентов голосующих теперь отвечали «нет».
Сердце у меня так и подпрыгнуло. Ким кивнула на застекленную кабину режиссера на вышке. Я навела бинокль и увидела между экранами слежения вытянувшиеся, ошеломленные лица. Если распятие кончится не начавшись, это будет катастрофа для рейтинга, вложений, рекламы и прибылей.
— Зритель, зритель, для чего ты меня оставил? — нараспев продекламировала Ким.
Я крепко обняла ее. Друзья познаются в беде: она стала моей сестрой, моей опорой, моей первой читательницей. Мы изо всех сил противились мысли, что Джимми падет жертвой собственной бравады, но в глубине души, переглядываясь, чувствовали себя вдовами. Ким рассказала мне все об их отношениях — даже о мысленном соитии в небе между Римом и Вашингтоном, о том немыслимом оргазме, который они испытали, она — в туалете, он — в кресле бизнес-класса. Моя и ее любовь, сложенные вместе, устремленные к Джимми со всей силой, на какую мы были способны, — если бы они могли помочь ему преодолеть боль!
Уже восемьдесят процентов голосующих были против смерти. Вокруг нас зрители, подключенные к интернету, передавали тенденцию соседям, и с трибун слышались первые выкрики: «Довольно! Прекратите!» Солнце скрылось за тучей, налетевший ветер сорвал кепки с голов.
— Отпустите Иисуса! — уже хором скандировали трибуны.
Невероятно, но факт: сострадание взяло верх над тягой к зрелищу, азартом и решимостью верующих в воскресение. Джимми победил. Он не спас людей — они сами пришли к искуплению.
Вдруг он споткнулся, и толпа захлебнулась криком. Крест, покачнувшись, стал медленно падать на него, но тут же выпрямился от мощного порыва ветра. Остолбеневшие зрители затаили дыхание, не веря своим глазам. Крест не рухнул, он застыл, наклонившись над лежащим Джимми, вопреки законам физики, словно два встречных потока не давали ему упасть. Изумление достигло фазы чистого восторга, продлившегося всего четыре-пять секунд. Джимми попытался встать — и крест, завалившись набок, разломился на две перекладины.
И в эту минуту прямо с неба прогремело:
— Минданао!
По трибунам прокатился крик, люди вскочили.
— Минданао, Исламская республика! — неслось из динамиков со всех сторон.
Снайперы! Камикадзе! От одних этих слов тотчас вспыхнула паника. Зрители бежали с трибун, толкаясь, опрокидывая и топча слабых, а служба охраны порядка тем временем пыталась сладить с сепаратистами, захватившими аппаратную. Разлетелся вдребезги софит. Следом еще один. Все операторы, бросив камеры, кинулись к стеклянной вышке, откуда руководство призывало сохранять спокойствие, но за воплями ужаса его никто не слышал. Не выдерживая натиска разбегавшейся во все стороны толпы, полицейские и военные тщетно надсаживали глотки, уверяя, что ситуация под контролем.
Расталкивая статистов и рабочих, улепетывавших вместе с публикой, мы с Ким бросились к холму. Джимми так и лежал между двумя обломками своего креста. Он потерял сознание.
Два санитара с носилками спешили к нам, на бегу испрашивая у руководства разрешения унести тело. Телефоны не отзывались. Руководству было не до того: слишком много проблем, правовых, рекламных и финансовых, возникало с прекращением спутниковой трансляции. Забытого всеми Джимми отнесли к медицинскому фургону.
Там, среди пострадавших, он пришел в себя и уступил свою очередь. Он успокаивал нас, говорил, что потерпит. Санитары дали ему обезболивающее, отодрали прилипший к окровавленной спине хитон, перевязали раны. Пока он лежал под капельницей, я выдернула пинцетом два десятка вонзившихся в кожу головы шипов.
Снаружи продолжалась потасовка. Я боялась, как бы фанатики не набросились на Джимми — приложиться, потребовать чуда, — но спектакль прервался, а много ли стоит актер без роли? Страх оказался сильнее веры, спасение своей шкуры насущнее спасения души, и никому больше не был нужен тот, кто получасом раньше нес на своих плечах надежду всего человечества. Помилованный Иисус — не Бог. Все оказалось обманом, надувательством, рекламным трюком. Когда опасность миновала, разочарование и гнев пришли на смену панике, и распаленная толпа возжаждала крови. Из санитарного фургона было слышно, как зрители штурмуют телевышку, требуя вернуть деньги. Ким кое-как остригла волосы Джимми, а я сбрила ему бороду, и так, инкогнито, нам удалось перенести его в машину «скорой помощи».
Привязанный ремнями к носилкам, накачанный транквилизаторами, он держал наши руки в своих и улыбался нам, то проваливаясь в беспамятство, то возвращаясь. Мы подъезжали к аэропорту, когда он произнес первое слово. Приникнув ухом к его губам, я услышала:
— Патмос.
— Патмос?
Мои губы растянулись в улыбке и ощутили вкус моих слез. Я повернулась к Ким. Вздохнув, она устало подтвердила:
— Патмос. Пещера, где святой Иоанн написал Апокалипсис.
Не стоило ей возражать, но для нас с Джимми это значило совсем другое. Я деликатно намекнула, что возвращать Джимми для лечения в Соединенные Штаты, возможно, не вполне своевременно: пока не улягутся страсти, лучше переждать где-нибудь в Европе, в тихом месте. Она посмотрела на нас. Джимми опустил веки в знак согласия. Ким позвонила в посольство и изменила наш маршрут.
~~~
Последние рыбаки вернулись в порт, чайки улетают к горизонту, солнце садится, и зимняя тишина опускается на белые крыши.
Затушив сигарету, я ухожу с террасы. В углу у камина Ким склеивает греческую амфору, которую нашла в море, а на большом монастырском столе, занимающем почти всю комнату, миссис Неспулос начиняет виноградные листья холодным чили — это блюдо ее собственного изобретения, отвратительное на вкус, но ей, как она говорит, оно напоминает об Америке. Операции на сердце прошли не очень удачно, но старушка пока жива и каждый день ходит к могиле мужа в глубине сада — просит прощения за то, что все еще не с ним. Наше присутствие ей, кажется, приятно, но она уже не от мира сего. В своем маленьком раю в Эгейском море она не живет, а убивает время среди старых фотографий, графинчиков узо и виноградных листьев.
Джимми потихоньку поправляется. Он решил заживлять раны в море, и они затягиваются день ото дня. Он уверяет, что ему не больно. Почти все время молчит. Свет его улыбки заменяет слова, но какая же открывается пустота, когда встречаешь его взгляд. Ким тревожится, я верю в лучшее, а миссис Неспулос не замечает в нем перемен: у нее нет телевизора, настоящее ее больше не интересует, и Джимми уже начал оборудовать в саду бассейн.
Через день он уходит с утра на лодке в море и возвращается на закате с полными корзинами рыбы. Рыбакам, хоть он и говорит с ними на древнегреческом, его общество, похоже, нравится. Я не знаю, как далеко он продвинулся по духовной стезе, понятия не имею, что он делает раз в два дня в пещере Апокалипсиса; я вижу его мало, только под вечер, когда отрываюсь от компьютера и, стараясь не показаться невежливой, норовлю поужинать поскорее, чтобы вернуться к работе. Я уважаю его молчание, и мне так много надо написать.
Какое несказанное счастье одновременно вынашивать книгу и ребенка: две заветные мечты сбываются параллельно и подпитывают друг друга. Мне бы, наверно, следовало побеспокоиться о будущем, но мое настоящее слишком полно. Ни разу Джимми не задал мне вопроса о рукописи, ни разу я не спросила его о подробностях того, что он пережил, передумал, высказал или утаил. Я полагаюсь на свое чутье, потому что он доверяет мне. Я вспоминаю, перемешиваю свидетельства Ким, Ирвина, Бадди Куппермана, кардинала Фабиани, который засыпал меня электронными письмами через посредство своего санитара, — и проникаю в душу Джимми, вижу все, что было с ним, его глазами, заново переживаю его словами. Когда я дам ему прочесть, он сможет исправить все, что захочет. А пока я занимаюсь его прошлым, и оно восстанавливается само собой.
При дрожащем свете свечей, в те вечера, когда мне кажется, будто мой герой состоялся, я смотрю на него в окружении трех женщин, осененного нимбом улыбки, сиянием внутреннего света, слушаю его молчание, не ведающее слов, которые я вкладываю в его уста, и думаю, что для того, чтобы воскреснуть, необязательно умирать. На что употребит он теперь свою жизнь, эту отсрочку, которую люди решили дать на сей раз тому, кто хотел стать их спасителем? Я еще не знаю, кем сделало его пережитое — полубогом или просто человеком в полном смысле этого слова.
Однажды, проснувшись ночью, я увидела его: он стоял надо мной, неподвижный, сосредоточенный, держа ладони над моим животом. Улыбнувшись мне, он приложил палец к губам и кивнул на Ким, спавшую в другом углу мансарды. Повернулся и ушел к себе. С тех пор я знаю, что он приходит каждую ночь, и во сне жду его. Он работает над моим ребенком, как я — над его книгой.
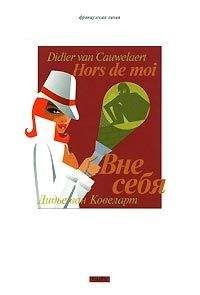
![Дидье Ковеларт - Притяжения [новеллы]](/uploads/posts/books/126083/126083.jpg)