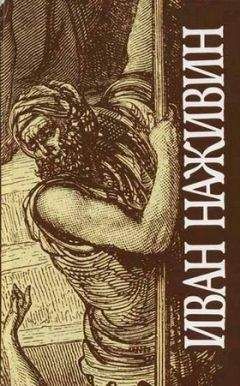Дидье Ковеларт - Евангелие от Джимми
— Да. Я не сын Божий. Но может, хоть приемышем стану, если будет на то воля Его.
Он встает, подходит ко мне. Смотрит в упор, и такой покой, такая безмятежность в его глазах, что сил нет на это смотреть.
— Не пытайся изменить мою судьбу, Эмма. А лучше запиши ее. Все, что ты можешь для меня сделать, — написать книгу.
Он наклоняется, мы соприкасаемся лбами, его ладонь ложится на мой живот. Он тихо шепчет:
— Прости за Тома. Это я пожелал, чтобы он оставил тебя в покое, искушение было сильнее меня.
— Да в чем ты-то виноват? — не выдерживает Ким. — В мысли?
— Мысли — это деяния, совершаемые другими. Не держите зла на моих палачей.
Он уходит в угол, садится на солому, снова погружается в медитацию. Меня трясет, я не могу сдержать накатывающие спазмами рыдания. Ким берет меня под руку, помогает выйти.
Овация собравшейся снаружи толпы провожает отбывающие силы охраны порядка.
~~~
Четыре мои статьи с разоблачением подлога Сандерсена ничего не дали, и «Нью-Йорк Пост» отказал мне в дальнейших публикациях, объяснив, не без оснований, что «это уже неактуально». Несмотря на все дипломатические усилия Ватикана и угрозу экономических санкций со стороны США, казнь состоялась в назначенный день и в назначенном месте.
Многие в интегристских кругах настаивали на том, что распятие должно совершиться на исконной земле, но Израиль решительно воспротивился этому кощунству, да и продюсеры все равно были против. Режиссер-постановщик тоже. Слишком мала территория, слишком застроена, к тому же опасна и подразумевает определенные ограничения. Поставить «Страсти-шоу» вне иудейского контекста и Пасхальной недели — это был прорыв, лишивший смысла всякую полемику и придавший событию, выходившему за рамки расхождений между конфессиями, масштабность универсального символа: именно эти слова употребляли все пресс-атташе и туристические агенты. Севернее Манилы была построена Голгофа, выглядевшая, пожалуй, более подлинной, чем настоящая. Исчерпав свои аргументы, антидискриминационные союзы призывали теперь хотя бы к бойкоту трансляции.
Между тем и международное научное сообщество мобилизовалось, чтобы разъяснить народам, как это пыталась сделать я, что кандидат на распятие не имеет никакого отношения к Туринской Плащанице и даже не является клоном. Все впустую: несмотря на неоднократные разоблачения Святого Престола и генетиков тридцать процентов опрошенных по-прежнему видели в Джимми Вуде реинкарнацию Христа, сорок ожидали Божьей кары за самозванство, а остальные заключали пари. Единогласный протест религиозных властей всех конфессий подлил масла в огонь: люди почувствовали, что Бог снова принадлежит им, а не духовенству. Над четырьмя этапами Страстей — местом бичевания, крестным путем, распятием и могилой — были установлены трибуны, места на которых продавались на черном рынке по три тысячи долларов. Официально все доходы должны были пойти благотворительным организациям.
Пастор Ханли без особого труда убедил рекламодателей, инвесторов и спонсоров в чистоте своих намерений: враги христианства, говорил он, пытаясь посеять сомнение в законности нового Мессии, развернули псевдонаучную клеветническую кампанию, но Господь всемогущий милостив, Он восстановит истину, принеся Своего сына в жертву, дабы во второй раз искупить наши грехи. Вот уж действительно, верят только богатым, и крупнейшие межнациональные корпорации вложили гигантскую лепту в богоугодное дело пастора Ханли, зная, что реклама все окупит сторицей. Обошлось, правда, без лейблов на кресте и полотнищ на трибунах, но и только. Специалисты, продававшие торговым маркам лучшее размещение на комбинезонах гонщиков «Формулы-1», рвали на себе волосы при мысли о том, до каких высот можно было бы взвинтить цену за каждый квадратный миллиметр тела распятого. Приличия были соблюдены, но телезрителям, естественно, никуда не деться от рекламных пауз на каждой остановке крестного пути. Как говорил Джимми, умирать приходится в ногу со временем.
Верный своему слову, он больше не произносил речей после первого публичного выступления на канале BNS. И вообще открывал рот только для того, чтобы требовать. Его дурачили, им манипулировали всю жизнь — ему одному решать, как он встретится со смертью. Он хотел настоящий flagrum, римский хлыст со свинцовыми кончиками, хотел сто двадцать ударов от двух палачей, хотел нести целый крест, а не одну перекладину, как это неверно представила иконография, хотел два гвоздя в запястья, в так называемые точки Десто, и один в предплюсну обеих ног, хотел терновый венец из gundelia tournefortii и посмертный удар копьем, если он не выдержит пытки; он хотел по всем пунктам в точности следовать свидетельству, запечатленному в волокнах Плащаницы. Ни суеверия, ни иллюзии «магического рецепта» не было в этом перечне, отнюдь: он просто хотел, чтобы до людей дошло. Чтобы они возродили Иисуса в сердце своем через осознание и сопереживание. Это и было Воскресение, к которому он стремился, — во всяком случае, я убедила себя в этом за те десять дней, когда, на расстоянии, за своим компьютером, пыталась поставить себя на его место. Он был готов умереть ни за что ни про что. Свое тело он даровал вере, как другие завещают науке.
На тот случай, если бичевание он выдержит, а Всемирная паутина проголосует за его смерть от удушья на кресте, — именно этого следовало ожидать по результатам опросов и анализу специалистов в области реалити-шоу, — Джимми дал четкие распоряжения. В завещании, составленном и заверенном по всем правилам, он требовал следовать букве библейского сценария: снятие с креста, облачение в саван, положение во гроб. Продюсеры, для которых этот исход был наиболее выгодным, предполагали заложить вход в могилу камнем, оставив внутри работающие камеры. Если что-то произойдет, зрители увидят феномен в прямой трансляции.
— Все глаза планеты прикованы к тебе, Джимми, — вещал пастор Ханли со стеклянной вышки. — Но только один взгляд важен для тебя, для нас — взгляд Бога-Отца всемогущего, ибо мы лишь смиренные слуги Высшей Воли, недоступной нашему пониманию и разумению! Помолимся же, братья, в час, когда мы причастимся его страдания, помолимся о спасении того, кто не жалеет своей жизни для нас, какое бы решение Святой Дух ни внушил Всемирному разуму. Да пребудет навеки с вами мир Господень!
— Мир душе вашей! — откликнулась на разных языках толпа, прибывшая со всего света: каждый слышал перевод в наушниках.
Сидя рядом с Ким на трибуне для прессы, я от всего своего неверия молилась: пусть будет хоть какой-нибудь Бог, пусть люди пощадят того, кто хочет искупить их ошибки и в ком большинство видит лишь гладиатора, камикадзе, ставку сто к одному. Ким поглядывала на дисплей своего мобильника, где высвечивалась кривая интернет-голосования. С отрывом в несколько миллионов голосов по-прежнему лидировала смерть.
Я держалась из последних сил, заставляя себя следить в бинокль за бичеванием, словно пыталась разделить и тем самым уменьшить боль Джимми. Счетчик на табло показывал всего тридцать восемь ударов, а он уже изнемогал, спина превратилась в сплошную рану, глухие стоны, которые он сдерживал, стискивая зубы, были все слышнее, усиленные звукооператором. Гробовая тишина воцарилась на трибунах. Люди наконец поняли, что происходит на их глазах, — или просто не хотели ничего упустить. На гигантских экранах крупные планы лица чередовались с замедленным показом проступающих под ударами бича полос.
На пятьдесят шестом ударе Джимми рухнул наземь. Цифры на счетчике замерли. Прибежала медицинская бригада, его осмотрели, посчитали пульс, измерили давление, вкололи кардиотоник. Гримерши вытерли кровь, подправили грим. Врач на экране успокаивающе покивал — и пошла реклама. Пауза затягивалась, все уже подумали было, что он откажется продолжать, страсти на тотализаторе накалялись, и те, кто ставил на Джимми, разразились исступленными аплодисментами, когда он поднялся и снова подставил спину статистам в костюмах римских легионеров. Это была последняя овация.
Я сидела с закрытыми глазами, когда Ким вдруг сжала мой локоть. Счетчик показывал сто двадцать, но публика почему-то не рукоплескала концу испытания. Джимми стоял пошатываясь, вскинув голову, еще содрогаясь всем телом от несуществующих ударов бича. Ему промыли раны, дали напиться, врачи снова осмотрели его.
Потом на него надели льняной хитон, увенчали голову терновым венцом, и он на нетвердых ногах направился к большому кресту, который поднесли ему легионеры. Наклонился, взвалил его на спину и начал подниматься на холм.
Публика безмолвствовала, замерев в невольном уважении, волнении и тревоге. Напряжение, царившее поначалу, сменилось каким-то дружным воодушевлением. На глазах у всех он вытерпел боль за пределами сил человеческих; на глазах у всех он нес теперь крест, и люди верили в него. Любопытство уступило место надежде, душевная смута пересилила жажду зрелища, на смену прогнозам пришли молитвы. Это был человек, сгибавшийся под тяжкой ношей, — и гораздо больше, чем просто человек. Каждый из нас шел вместе с ним, каждый преодолевал этот путь шаг за шагом, отринув страх, невозможность и абсурдность происходящего, ощущая в себе безмятежный покой, который сквозь маску страдания озарял крупные планы Джимми. Только вокруг площадки почему-то нарастала суматоха, ассистенты суетливо сновали между камерами и недоуменно разводили руками.
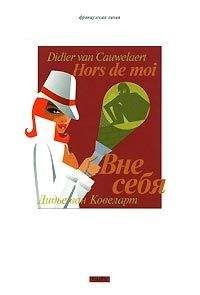
![Дидье Ковеларт - Притяжения [новеллы]](/uploads/posts/books/126083/126083.jpg)