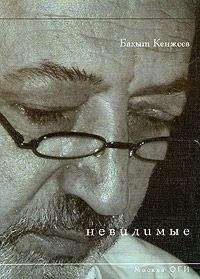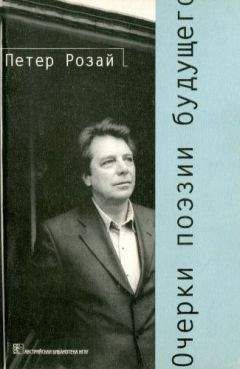Александр Гольдштейн - Спокойные поля
Его раздражала разряженная колыбельно-качельная интеллигентская проза и такие же снулые стихи, через которые можно руку пропустить — и выйдет с изнанки, поскольку в них ничего, плоть, как у кузнечика, полная безъядерность, писаны безо всякой траты организма и без аурического свечения по полям, а потому — ерунда и бессмыслица. Это его свойство, между прочим, очень изнуряло, совестливому и нефанатическому человеку в его присутствии было убийственно стыдно за то, что не питался гаввахом пополам с эфиром и не умел перманентно поддерживать в себе тонус и статус пафоса, — а посему, по правде, рядом с ним хотелось повеситься. Он, которому исход из будничной колеи был отприродно задан, ежедневно лично мне доказывал (хотя намеренья не имел), что мое место на шкале эволюции — где-то рядом с шелкопрядом, втаптывал меня в мою же собственную сущность, не доведенную до высокой технологии, в формальную и неоформленную жизненную позу, навязанную кем-то извне.
Сам он был причастен будням ровно до границы кожной поверхности, под которой в чистоте хранились органы. Все пропускал мимо и со всем соглашался; политикой не интересовался и мог сказать, как Кузмин — пускай нами управляет хоть лошадь, мне безразлично. К вещам почти не испытывал привязанности (что сочеталось с материальной цепкостью и даже микроскопичностью взгляда), за исключением намохначенного, десятилетней выдержки кофейно-молочного пуловера Бренера, в котором ходил в больницу, дабы там его изучали в разрезе и послойно, как минерал, ну а в шкафу хранил подаренный Гробманами пижонский пиджак с лиловой искрой — не одевал, но ценил. Но основное, конечно, — книги, я собираюсь держать его книги в совершенном порядке, чтоб как при нем, деррида к дерриде.
Вот что в нем главное — подлинность, какая-то изуверская подлинность, рядом с ним все казались поддельными куклами. К тому же у него были невиданно развиты сенсорные области и органы понимания (сюда входит тончайшее чувство нарушения нормы), которыми редко удостоен человек, и он, подробно роясь в погибших способах существования, как палеонтолог в дракононосных породах, своими обостренными инструментами поразительно точно схватывал глубинную суммирующую стиля, или же устанавливал доминирующие линии напряжения какого-то незаурядного цикла жизнесмертия.
Примеров тут тьма, я приведу первые пришедшие в голову; как он визионерски понял заточенного в психбольнице Антонена Арто, который как какой-нибудь аскет, саньясин, изживал в своем теле чумную эпидемию, способную унести все население города вместе с гарнизоном, санитарным кордоном и, вдогонку, деревней. Как приписал Версаче, сего диктатора и предводителя варварской роскоши, ко двору Дария с Киром; как метко выделил сны и сов в лунном составе Дэвида Линча, приземлившегося на одной из оскаровских церемоний в своей сновозке вместе с беременной лунатичкой-женой и карликом.
Да он и сам был совой и сомнамбулой от природы (гипоксия только усугубила, прибавила), и точно так же, как у дремлющей совы, было у него какое-то свойство пограничной расшатанности сознания и внутренняя бесшумность шарниров организма. Это, впрочем, никак не исключало живого захлеба и полыхания (он сразу на глазах включался и вырастал, и тут уже пирамиды Луксора были его сестры и братья) в ответ на вопль, свет и прорыв, обрушенье и пафос, независимо от их стартовой почвы, возможно, идеологически червивой в западном понимании, вроде шиитской борьбы с прогнившей материей и освежающих ужасов мухаррама. Хомейнистской революцией он восхищался примерно так же, как и какой-нибудь патетической, с харакири в пике, биографией, — его невообразимо воодушевляла утопия, взятая в любом материале, и связанная с ней попытка реактивного прорыва и пробоя сквозь толщу орущего и сопротивляющегося мира на ту сторону, в светозарную невероятность. Да он и сам был окном, живым люком в стене выгребной ямы, выводившим в эти неподдельные места; в благодарность я возле него приплясывала, как южноафриканский басуто возле тотема.
Он искал и преследовал все, что кипятилось на высоких градусах, а значит, состояло с ним в отношениях родственности и соразмерности. При этом близкая энергетика могла проявиться в чем угодно, в разбросе от хиротерия и до Гуссерля, от прыжка Нижинского с его воздушным зависанием и до тель-авивской ночной сходки половых сумасшедших с интенсификацией внутреннего состояния участников вплоть до перехода к какой-то пугающей ацтекской церемонии (вот, между прочим, экзотичнейшая публика в самых сложных перекрестно-опыляющих комбинациях, вроде транссексуальных лесбиянок и бигендерных инвалидов ЦАХАЛа, заявляющих о своей культурной особенности).
Все это шло от вкуса и позыва к жизненно-напряженному, к ультра-биологическому, сказал бы русский философ, так же, как и отчасти порнографические главы Сашиных книг, добившие его несчастного родителя, с трудом снесшего открывшийся позор фаллоцентричности и чуть ли не стеснявшегося высунуть нос из дому, хотя похоть, и я на этом настаиваю, была свойственна не только пишущему, но и самому письму.
В Риме мы пускались, допустим, по следам Пазолини, чья незаурядная телесная сейсмичность (отсталое витальное существо, заметил бы доктор Рудольф Штейнер), только и ожидавшая, чтоб нажали на спусковое устройство, и была бы разрядка и титанические сдвиги пород, Сашу очень занимала. Как же, мэтр, знаменитость, а все ловил и насиловал на пляже своих уличных Аккатоне, представить только, как международно увенчанный гений проносится с языком на плече по грязному песку в мусоросборнике, в Остии, и валит кого-то немыто-невзрачного, невзирая на сопротивление.
Было в нем понимание того, о чем писал с проникновенностью и со знанием дела нашумевший французский философ, который, прочитав лекцию в Колледж де франс, мчался ближе к вечеру на Страсбур Сен-Дени домогаться магрибских подростков. Получив в зубы отказ, собственно, только ему и нужный, он далее отмечал в дневнике — мы недооцениваем силу наслаждения, которой обладает перверсия — гомосексуализм, гашиш (ныне это выглядит несколько старомодным, ситуацию спасают лишь калибр и регалии автора). Гашиш мы, кстати, как-то опробовали — накурились, и, главное, нагальванизировались от ужаса, что сейчас будет опоссум с конским хвостом и высшие метафизические пируэты щелемордых и рукокрылых, с неясными психическими отложениями в остатке для субъектов астенического типа, но по психоделическим передатчикам не дошло ничего, кроме бешеного аппетита.
Саша с чрезвычайной осторожностью и юродивой деликатностью относился к твари, особенно твари мельчайшей — по-моему, предполагал, как один южноамериканский диктатор, кажется, сальвадорский Мартинос, что муравья жальче, чем человека, поскольку «муравей не воскреснет». Впрочем, он и на человека не очень рассчитывал, да и воскрешение его устраивало не в каком-нибудь лучистом облике (либо грибном облаке), а только вместе с внутренней проштудированной библиотекой со всем, от нашептывающих Рильке и Клюева и до второстепенных почитаемых им авторов, которых он по-человечески жалел и оплакивал (ведь их ненужную прозу даже лошадь не захотела услышать), и, может, с соловьем на цепочке и пьяненькой, из бронзы, тройкой котов.
Если что-либо не выносил, то жестокости — испытывал физиологическое отвращение к одному своему сокурснику, сотоварищу по бакинскому университету, рубившему головы голубям после лекций о гуманистических аспектах творчества тюркских ашугов. Но был снисходителен к тому, что нежный французский классик подглядывал из-под одеяла, как гильотинируют крысу (с катарсисом, надо думать, в остатке). Размежевание проходило по разлому писательства, ибо не может быть единой этики для вороны и археоптерикса, равных лишь размерами и полетом.
Обычай писательской монструозности, изящных и изощренных патологий души вызывал в нем интерес и сочувствие, понятый как компенсация за шаг в дебри диалектики нарушения, за пионерскую работу в диких местах сознания, где гуроны свободно дерут скальпы с соседнего племени, а «Вестерн Юнион» еще не поставил свои телеграфные столбы. Ему импонировал невнятный, плавающий между оградительными буями пол Виржинии Вульф, который ей самой не был до конца прояснен и понятен, и казался притягательным могучий садизм с парным мазохизмом автора «Пентесилеи» (впрочем, в случае Клейста не обойтись словарем психиатрических штампов). Он одобрял самоубийство Пьера Дрие ла Рошеля, в чистоте, среди книг, в подходящее время и в продолжение творчества, и восхищался сумасшедшими сроками жизни (тоже вид извращения) неистребимого автора «Излучений», которого не убила никакая война.
Несомненно, он не стал бы стрелять по толпе, как призывали сюрреалисты, полагавшие — он об этом много писал, — самую стрельбу простейшим творческим актом (а тот, кто не в состоянии отважиться, якобы сам должен подставиться под револьверное дуло); но если б стрелял Бретон, он нашел бы для него оправдания.