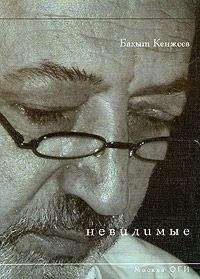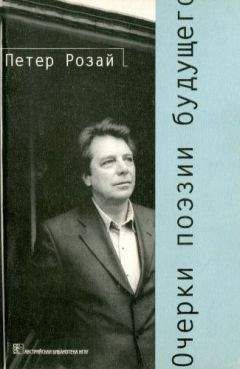Александр Гольдштейн - Спокойные поля
Укрупненные последние кадры (боже мой, и двух месяцев не прошло, а память уже подсовывает мемориальный музейный муляж вместо живого) связаны с довлеющей над ним орущей и угнетающей машиной, которая всем распоряжалась за него, дышала, поддувала и попыхивала, а временами как по рельсам бухала — давала SOS. Ассоциативно все это перекинулось в описанные Жидом (в автобиографии) сцены, в которых Оскар Уайльд и его менее одаренные товарищи совершали отвратительные половые набеги на арабских носатых мальчишек в бурнусах и с дарбуками в руках, кажется, в алжирской дыре, не пригодной ни для каких других цивилизаторских целей. Один из них стоял, возвышаясь, в плаще до пят, над поперечным компактно организованным телом, похожим на труп, и так же к Саше (он был без сознания) вертикально подсоединялась машина.
Еще хуже, сокрушительней и враждебней ему были подрыв и попрание биологической этики, когда самые интимные жизненные коды, трансцендентные зрению, а значит, абсолютно неприкасаемые, выставили на компьютерный экран, как если б речь шла о подсчете камушков в желудке курицы. Не говорю уже о несправедливости самого исчисления этих кодов, при полном непонимании того, что у него не просто сердце и кровь, как у африканца рядом, а вопиюще отличные от любых других сердце и кровь, другие сердечные толчки, с иной подоплекой и назначением, которые совсем недавно, быть может, пару часов назад, разгоняли кровь языка по капиллярам синтаксиса вплоть до самых периферийных клеток (я цитирую Беньямина).
Рядом с ним, я только что упомянула, кончался молодой эфиоп, извлеченный из теплой петли в близрасположенном пенитенциарном заведении, куда угодил за какую-то прошкодливость — иной вид, из другого жизненного яруса и другой биоты, но вот, пожалуйте, пришел умирать на соседнюю койку. Опередил на день, мне не было жаль — от этого, с амхарским уклоном, не останется ничего, кроме отпечатков перьевого покрова на сланцах. К тому же лет пять назад он и ему подобные абиссинцы, немытые африканцы, с таким же личиночным сомнамбулическим сознанием, как у куста жимолости или травы, накрыли Сашу в чащобах центральной автобусной, конечно, не без криминального умысла, рвали из рук купюру и вырвали, взяв числом и уменьем. Он потом сокрушался, что не вручил добровольно бумажку, а значит, не выдержал позу писателя, простирающего гуманитарную мышцу даже над нищим абиссинским зверьем и отребьем, которое другой, ради интенсивности стиля, живьем бы зажарил на вертеле и полил соком я-йо.
Что было до этого: последние несколько дней по утрам, когда он пытался кое-как раздышаться, глядя в телеэкран, оттуда изливалась порциями эйзенштейнова макабрическая хореография, со всеми плие и сотэ поставленная перекрывать самое мертвое в смысле рентабельности время. И вот ежедневно перед ним возникала режуще-колющая борода (давали «Ивана Грозного»), с несомненностью изобличавшая внутренний строй убийцы, и вывернутый к небесам черкасовский горящий глаз, степень ослепительности которого была такова, что он почти переставал быть глазом, уходя в иноприродный тунгусский метеорит, способный вспахать кратер и вызвать к себе делегации озабоченных геофизиков. Саша, нестерпимо торжественный, задыхался глаз в глаз с инфернальным и готическим царем.
Обстоятельная и задумчивая смерть, не из числа скотских и массовых, — наверное, это приз, но такой, от которого выворачивает мездрой наружу, и волнуюсь к тому же, чтоб по какому-то недосмотру, ведь в памяти гвоздем застряла болезнь, не втиснуть поминальный текст в границы черной анатомической мессы, чего-то этически неприглядного в духе «Общей анатомии» Биша с ее тупой медицинской жизнерадостностью — «вскройте труп, и живой мрак рассеется в свете смерти». Хотя, конечно, он бы позволил, тут нет сомнений, пройтись в свободной пляске по своим костям, поставив единственным заградительным требованием сколько-нибудь сносную словесную снаряженность и энергетичность, объединенные в его глазах в высшую этику текста.
После этих оговорок могу переходить к главному; я заметила в нем, задолго до болезни, нескрываемое восхищение долгоиграющими, размашистыми жизнями, какого, я уверена, не бывает у тех, кто к таким срокам генетически предрасположен.
Лет шесть-семь назад (Саша сказал бы — египетская вечность) в Лондоне он ходил по склепу собора святого Павла, поражаясь и вымеривая жизни здесь уложенных фельдмаршалов, кавалеров ордена Британской империи 4-й степени, киплинговых шагающих сапог, некогда удерживавших полмира, между заупокойными изваяниями которых скакали блохами потомки, эти гомункулы с муравьиным калибром души, приторговывавшие сэндвичами и пирогами. (Вся сцена напоминала некогда затеянную Оуэном и Ходкинсом выставку фигур доисторических животных в натуральную величину, с обедом на двадцать персон внутри колоссального ящера, дабы публика получше осознала масштабы и соотношения.) Он с азартом прикидывал — вот, почти никто не прожил менее восьмидесяти, а отдельные генерал-губернаторы дотянули до ста, — львы бессмертные в условиях вопиющей антисанитарии, черт-его в каких булькающих колониальных ямах, заваренных вирусами и вшами, с винтовками, в белоснежных воротниках, иммунизированные сумасшедшим чувством долга, и, конечно, удовольствием от империализма, оттого их не могла ухватить своими статистическими тисками никакая малярия либо чума.
Про себя он думал, что умрет от инфаркта, зимой, кажется, в декабре. Не угадал — рак легких, месяц июль, война, поющий раввин, поскрипывающая телега с телом, всего 40 кг, с номером 31, совпавшим с номером дома одного из тех, кто спускал его, спеленатого, без саркофага, но в слепнях и в солнце, в могилу; а та уже обмертвила его некогда живое имя, отныне втесанное в гранит (он сам бы предпочел траурную акустику турецкого мрамора).
Впервые узнав о болезни (невидимый мастер нанес пробуждающий удар палкой по голове, голова раскололась), в треклятом марте треклятого 2004 года, он, сидя на службе в черной велюровой куртке с защитно поднятым воротником, с таким видом, как если б им ощущалось начавшееся по обочинам организма гниение отдельных молекул (до сих пор не могу вспоминать эту его убитую спину), взялся составить список досрочно скончавшихся пахарей одного с ним цеха и поля. На призыв откликнулись многие, он собрал их в некрополь, они призывали к смирению.
Он ничего не хотел знать о болезни и продолжал, сколько мог, ее игнорировать, подспудно надеясь, что создаст с ней экологически сбалансированный и взвешенный союз и сумеет по-хорошему сожительствовать, или же что пройдет еще тьма времени, пока она начнет реально влиять и вредить в тех внутренних ярусах, куда он насмерть стоял ее не пустить. Ну а сам, конечно, укрылся за стенами книг (чтение было воплощенным счастьем и раем), забаррикадировавшись в местах такой отдаленности, что от них остались в лучшем случае раскопанная в флороносных слоях плесневелая терракота, сырцовые стены и неясные эманации в дополнение к глиняному столу для разделки жертвенных туш, ну и свал уже покойных исследователей, каждый из которых достоин своих раскопок. Чем хуже было, тем больший шаг откладывал по исторической абсциссе, как если б рассчитывал удалиться от себя как раз на отмеренный временной промежуток, за который рубиново-карминовый Сириус успел эволюционировать в белого карлика. Наконец добрался до «Людей города Ура» (Месопотамия, II тысячелетие до н. э.), успел дочитать и вложил закладки (невообразимо печальные, расставленные как маяки для несостоявшегося будущего) — как раз там, где караваны и карнавалы, половая невоздержанность по праздникам, да и покойники еще под рукой, их хоронят под полом.
Думали, будто он уравновешен, упорядочен, мягок, культурен (как людоед Мамлеев, выглядящий не хуже бухгалтера) — до какой же степени невменяемы люди. Ничего в нем не было уравновешенного, да и вся эта китайская учтивость с окружающими имела в подоснове непробиваемое и очень доброжелательное равнодушие ко многим и многому (в этом смысле его эмоциональный регистр был далек от общепринятого), за исключеньем письма, литературы, хотя, конечно, не в ее нынешнем виде. Его никак не устраивала такая литература, чей вклад в современную жизнь состоял бы в отвлечении лучших умов от более опасных, чем литература, занятий. К тому же всякая кротость заканчивалась, дойдя до письма с этим его свальным грехом орхидей с бугенвиллиями, с оранжерейной субтропичностью, от которой не продохнуть, с круглогодичной вегетацией и влажно-ползучей многоярусностью, когда слова отжимались и отцеживались, чтоб только из второго и, желательно, третьего ряда, не истертые прикосновениями миллионов бессмысленных бытовых языков и незначительных артикуляционных аппаратов.
Его раздражала разряженная колыбельно-качельная интеллигентская проза и такие же снулые стихи, через которые можно руку пропустить — и выйдет с изнанки, поскольку в них ничего, плоть, как у кузнечика, полная безъядерность, писаны безо всякой траты организма и без аурического свечения по полям, а потому — ерунда и бессмыслица. Это его свойство, между прочим, очень изнуряло, совестливому и нефанатическому человеку в его присутствии было убийственно стыдно за то, что не питался гаввахом пополам с эфиром и не умел перманентно поддерживать в себе тонус и статус пафоса, — а посему, по правде, рядом с ним хотелось повеситься. Он, которому исход из будничной колеи был отприродно задан, ежедневно лично мне доказывал (хотя намеренья не имел), что мое место на шкале эволюции — где-то рядом с шелкопрядом, втаптывал меня в мою же собственную сущность, не доведенную до высокой технологии, в формальную и неоформленную жизненную позу, навязанную кем-то извне.