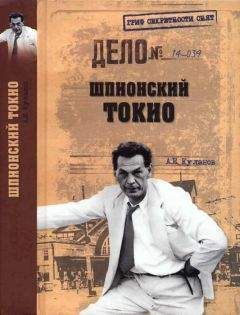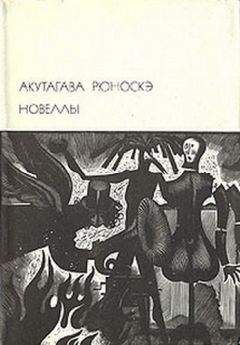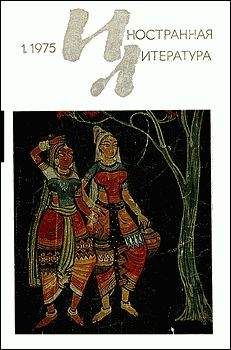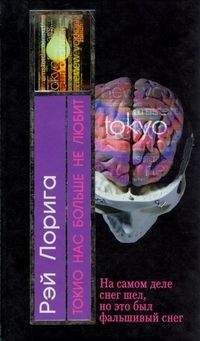Пилип Липень - Ограбление по-беларуски
— Кто это? — спросила мама, входя на кухню.
— Друзья, мам. Сокурсники, — отвечал Лявон, закрывая ладонью микрофон.
Тем временем Янка начал декламировать свой свежий стих, проникнутый, по его словам, блоковским настроением:
Волоокие сволочи
Мне всю душу сгубили.
Ни одной малой мелочи
Загубить не забыли.
В ризах чёрных, резиновых
Ночью в ставни стучали,
Мышек малых да ласковых
Сапогами пугали.
Пусть умру я, поруганный,
Пусть погибну, оболганный,
Но презренных предателей
Прободаю проклятием!
Лявон поспешил распрощаться с Янкой, сославшись на то, что его ждут. «Какая чушь. На кухонную тему у него получалось лучше», — думал он, пристраивая рюкзак на багажнике велосипеда. Мама вышла на крыльцо и смотрела, как он выводит велосипед за ворота. Он помахал маме рукой, затворил калитку и обстоятельно высморкался. Перед мамой и Алесей он старался не проявлять признаки простуды.
— Далеко до этой деревни? — спросила Алеся, держа его за руку.
— Километров десять, вон в ту сторону, — Лявон показал свободной рукой на далёкую полосу тополей, скрывавших железную дорогу. — Жаль, что я не смогу увидеть тебя в платье!
— Ты правда хочешь увидеть? Но это же только примерка, тебе будет неинтересно. Хочешь, я дождусь тебя, и поедем вместе?
— Нет-нет, поезжай пораньше, чтобы не задерживать маму с шитьём. А я вернусь поближе к вечеру.
Он обнял её за шею и притянул к себе, поглаживая по тяжёлым волосам. Фауст, громко дыша, подбежал, игриво ткнулся головой и попытался протиснуться между их ногами. Лявон отстранился, потрепал его по взлохмаченному загривку и пошёл к велосипеду. Алеся присела на корточки, обхватив Фауста за мохнатую грудь, и смотрела, как Лявон отталкивается от земли и забрасывает ногу в седло. Набирая скорость, он оборачивался, а она вставала на носочки и махала ему вслед.
Удаляясь от хутора и от деревни, Лявон чувствовал, как с него спадает полупрозрачная пелена, оболочка, тяжесть которой он ощутил только сейчас. Так уже было несколько раз — когда он впервые поднялся на крышу, когда они с Рыгором устроили разгром в банке — ощущение свободы, новых возможностей и открытости миру. Подъезжая к железнодорожной станции, где дорога сменилась на бетонную, Лявон был уже окончательно счастлив: оцепенение и прострация оставили его, сменившись свежестью, смелостью.
Сплошной поток солнца заставлял щуриться, и он, остановившись на переезде через рельсы, приложил ладонь козырьком к глазам, чтобы прочесть название станции: «Конотоп». Это ни о чём ему не сказало. Стояла полная тишина, только в отдалении, в тополях, прерывисто пела пичужка. Рельсы блестели сталью, направо и налево. Перекатив подпрыгивающий, позвякивающий звонком велосипед через переезд, Лявон снова сел в седло и налёг на педали.
Бетонная дорога превратилась в грунтовую. Цепь начинала скрипеть, он устал, а зелёным полям не было конца. Обернувшись, Лявон увидел, что уже прилично отъехал от Конотопа — линия тополей почти потерялась вдали. «Километра четыре-пять», — решил он и запел, чтобы ободриться. Но ноги гудели, в горле першило, и он очень обрадовался, когда за очередным поворотом появилась стайка тонких деревьев. Лявон остановился и прислонил велосипед к серому стволу. Погладил пальцами продолговатые, покрытые белёсым пухом листики, и, зевая, прилёг.
Когда он проснулся, солнце уже клонилось к горизонту, просвечивая сквозь пушистую крону. Голова болела, гудела. «Снова я всё проспал! Придётся ночевать у бабули», — он мрачно вывел велосипед за рога на дорогу. Небо впереди было глубокое, синее. Повеял слабый ветер: горьковатый запах сухих трав. Лявон сделал несколько глотков сока и покатил вперёд — быстро, чтобы не пришлось ночевать в поле. «Хотя, если вдуматься, нормальный велосипед должен быть с фарой. Рыгор просто поленился».
Теперь воздух стал прохладным, и Лявон даже застегнул верхнюю пуговицу рубашки. Показалась одна, другая, третья звезда, а потом они высыпали сразу все. Лявон смотрел на вечернее небо, но растворяться в нём ему мешало беспокойство. Он тревожился до тех пор, пока не увидел мягко проступающие в сумерках светлые стены с жёлтыми квадратиками окон. Это был домик, очень похожий на домик Алеси — без забора, с треугольной крышей, с трубой посередине. Он сбавил скорость и направил колёса к крыльцу. Звонок громко дребезжал на ухабах, и Лявон, обычно сердившийся на этот звук, сейчас радовался ему, стесняясь стучаться в дверь и рассчитывая быть услышанным хозяевами вот так, как будто не нарочно.
Дверь отворилась, и на крыльцо вышла черноволосая фигура в белом платье. «Алеся!» — ёкнуло у Лявона в груди. Пронеслась мысль, что он каким-то чудом сделал крюк и снова оказался у её хутора. Он подъехал ближе и остановился, зажав раму между ног.
— Ты кто? — спросила девушка. Кажется, это была не Алеся.
— Меня зовут Лявон. Ехал к бабушке и заехал куда-то не туда. Куда меня занесло, подскажи?
— Необычное у тебя имя, Лявон. Ты из Киева? — отвечала она глубоким певучим голосом, — Меня зовут Зоряна. Хочешь напиться?
Лявон мелко потряс головой — его охватило сильное чувство дежавю. Он отказался от воды и всматривался в лицо Зоряны, плохо различимое в полутьме. Пахло далёким костром, а может полынью. Откуда-то из ночных полей донёсся чуть слышный смех, обрывок песни.
— Кто это? — Лявон повернул голову в темноту.
— Дивчины поют.
Они помолчали. Там, откуда долетала песня, мерцал огонёк — дивчины зажгли костёр. «Водят хоровод. И все точь-в-точь такие же, как Алеся, — подумалось Лявону. — Но это просто подло! Это насмешка и издевательство!» Он снова попытался разглядеть Зоряну, а она приоткрыла дверь и позвала его:
— Пойдём! Ты голодный, напевно? Оставайся у меня ночевать, завтра уже к бабусе поедешь.
Лявон оставил велосипед у крыльца и поднялся в дом, удивляясь музыкальности здешних обитательниц. Внутри оказалось ярко и чисто. На белых стенах пестрели расписные тарелки, тканые коврики, сухие венки, репродукции маринистов; на столе, на подоконниках и на комоде стояли свежие букеты полевых цветов и множество мелких фигурок — костяных, фарфоровых, стеклянных.
— Вот и хлебушек сейчас подоспеет!
Улыбаясь, Зоряна усадила Лявона за стол с вышитой скатертью, а сама нагнулась к широкой печи и что-то двигала в глубине. Лявон с облегчением отметил, что на Алесю она походила только волосами. Фигура у неё была тяжелее, лицо — скуластее. Лявону не терпелось узнать, куда он попал, но спрашивать напрямую и выглядеть чудаком не хотелось. Пришлось хитрить: он спросил, есть ли у неё телефон, и она с некоторой обидой (думаешь, здесь у нас совсем цивилизации нет?) показала ему на жизнерадостно-жёлтый аппарат.
— Можно позвонить от тебя в Минск? Я только скажу твой номер своему другу, а он перезвонит.
Зоряна замахала руками: пусть даже не думает перезванивать! Разговаривайте, сколько хотите. Она не знала телефонных кодов и принесла увесистый синий справочник, смахивая полной ладонью пылинку с обложки. Лявон опустил толстый том на колени, открыл, и сомнений не осталось — Украина. Он набрал номер Пятруся, и тот снова взял трубку после первого же гудка. Зоряна занималась хлебом, и Лявон вполголоса описал Пятрусю свою поездку. Пятрусь вскричал: «Украина? Прекрасно!» — да так громко, что Зоряна оглянулась с удивлённой улыбкой.
— Лявон! — радостно восклицал Пятрусь, — Вы знаете, что Сильвестров, автор наших с вами песен — именно украинский композитор? У меня родился просто роскошный план! Лявон, вы должны отыскать там Сильвестрова. Слышите? Этот человек владеет ключом к тайнам бытия!
— Да как же я отыщу его, Пятрусь? Сами подумайте. Если б хоть адрес знать.
— Проща-ай, сви-ите, проща-ай, зе-емле… — вместо ответа Пятрусь громко, с энтузиазмом запел одну из их любимых песен.
— Какой весёлый у тебя друг! Поёт по телефону, — засмеялась Зоряна, — Что это он поёт?
— Лявон! Что я слышу! — ахнул Пятрусь, — У вас там женский голос? Это правда? Дайте, дайте же мне с ней поговорить!
Лявон, раздражённый абсурдностью ситуации, протянул Зоряне трубку и в сердцах встал. Пятрусь что-то вещал ей, а она хохотала, уперев руку в крепкий бок и закидывая голову. Потом они запели дуэтом «Прощай, свите», и Лявон невольно заслушался её низким, но удивительно нежным голосом.
Когда песня была допета, Зоряна протянула трубку Лявону, но он покачал головой. Разговаривать ему не хотелось. Он выглядел таким уставшим, что Зоряна без лишних вопросов постелила ему в соседней комнате кровать. Лявон разделся, сложил одежду в ногах и опустился в постель. Перина приняла его мягко, прохладно и глубоко. «Нарушения топологии, — лениво думал он, нежась кожей плеча о подушку. — Нелинейность пространства. Час-другой езды на велосипеде — и ты уже в неведомых краях. Но кто готов определить, есть нарушение или нет? Кто измерит линейность? Где эталон?» Он вспомнил, как во время последнего посещения банка разжился картой мира, и она наверняка лежит в рюкзаке. Завтра, завтра.