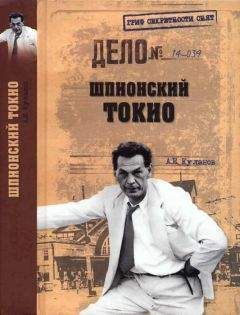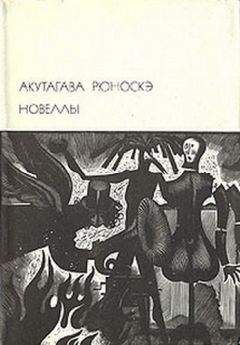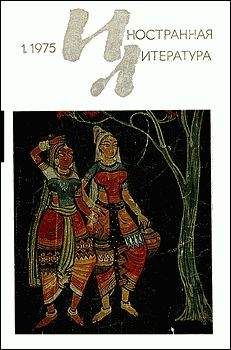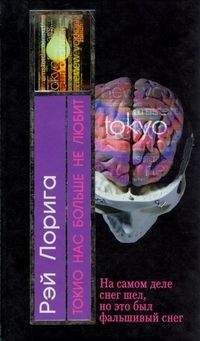Пилип Липень - Ограбление по-беларуски
Пятрусь прервался, и Лявон открыл рот. Надо было что-то сказать, но в голову ничего не приходило.
— Я женюсь, — сообщил он буднично.
— Лявон! — позвала мама из комнаты, — С кем это ты? Из ЗАГСа, да?
— Да! — откликнулся он.
— С кем это вы? — спросил из трубки Пятрусь, — Что значит женюсь?
— Девушку встретил.
— Девушку?! — у Пятруся что-то звякнуло, наверное, он держал в руках ложку и от восторга выронил её. — Лявон, я не ослышался? Вы сказали — девушку?
— Да, — Лявон испытал досаду, ясно сознавая, что сейчас начнётся по-научному бестактное вторжение в личную жизнь.
— Лявон, но вы уверены, что ваша избранница — на самом деле девушка? В полном, так сказать, смысле слова? У меня в памяти ещё свежо воспоминание о вашем эксперименте с бабушкой. На этот раз вы удостоверились? — голос Пятруся был совершенно серьёзен, и это удержало Лявона от резкостей. Насмешки бы он не потерпел.
— Пятрусь, я абсолютно уверен, что она — особь женского пола, именно женского, — ответил он ровно. — Более того, здесь присутствует и моя мать, она также женщина.
Пятрусь в большом волнении принялся выспрашивать подробности. Сначала Лявон отвечал нехотя, но постепенно исследовательское воодушевление Пятруся заразило его. Но разговор уже длился слишком долго, и он опасался, что мама удивится этому, войдёт и станет слушать. Лявону не хотелось, чтобы мама узнала о его связи с Пятрусём. Он стал прощаться, но Пятрусь не отпускал его, убеждая в необходимости новых изысканий и пытаясь на ходу продумать их методологию. Лявону пришлось пообещать Пятрусю, что он сегодня же приступит к экспериментам. Напоследок академик ещё раз выразил восхищение способностями Лявона и оставил свой номер, наказав звонить в любое время суток и как можно больше петь.
После обеда — хотя, строго говоря, никакого обеда не было, Лявон только выпил стакан сока — они с мамой спели «Зимнюю дорогу». Она сидела в кресле, опустив на колени шитьё, а он стоял чуть позади, держась рукой за спинку. Они смотрели на кирпичную печку, глянцево-белую. Лявон представлял, что у печки стоит Алеся, повернув голову к окну, а о чём думала мама, понять было невозможно. Петь вдвоём Лявону нравилось больше всего — получалось сдержанно, но сильно. К концу песни мама прослезилась, в последнее время она легко плакала, безо всяких поводов. Свои слёзы она объясняла «так, просто так, Лёвушка», и он перестал спрашивать о причинах, делая вид, что ничего не замечает.
Оставив маму заниматься выкройками и выточками, к которым она так пристрастилась, что забросила огород, Лявон поехал к Алесе. На гравии велосипед встряхивало, щитки назойливо дребезжали, но он разгонялся посильнее, и тряска смягчалась, а от напряжения и от шума воздуха в ушах механические звуки слабели — оставались только скорость и проплывающие мимо поля. А сверху его сопровождали огромные и дружелюбные облака — совсем как в его прежних мечтах. «Как хорошо! — думал он, — Может быть, больше ничего и не надо? Ехать сквозь поля, под облаками, и предвкушать встречу. Что лучше — сама встреча или её предвкушение?»
Вечером, глядя, как Алеся расчёсывает волосы широким деревянным гребнем, а потом собирает их резиновым ремешком, Лявон пытался вспомнить, что было изображено на картинках в той книге о мужчине и женщине, которую давал ему смотреть Пятрусь. Но кроме тел с обнажённой кроваво-красной мускулатурой он ничего не помнил. Его сознание двоилось. «Женщина или нет?» — сомневался он и не представлял, как можно разрешить эти сомнения. И одновременно жмурился, ёжился от густо бежавших мурашек — при виде её поднятых рук, когда под бледной кожей проступали изящные длинные мышцы. Она повернулась и спросила с шутливым недовольством — он так и собирается жениться, с соплями? От этого голоса его обдало жаром. Ему стало совершенно понятно, что обследовать её тело, как он однажды обследовал тело старушки — унизительно и кощунственно. Он решил, что этому не бывать. Для научных изысканий можно выбрать любую другую сферу, надо только переключить внимание Пятруся.
Уже в полной темноте возвращаясь домой, он подъехал к магазину и остановился у будки телефона-автомата, слабо освещённой фонарём на другой стороне улицы. Дверь со скрипом отворилась, в холодной трубке отозвались далёкие гудки. Лявон облегчённо вздохнул — ему не хотелось звонить из дома. Он развернул бумажку с телефоном Пятруся и с третьей или четвёртой попытки правильно набрал код города и номер. Тот сразу поднял трубку, как будто сидел у аппарата и ждал звонка.
Лявон начал в лоб: он сказал, что теория Пятруся о конечности пространства и времени потерпела полное крушение, и предложил ему прокомментировать существование материи за пределами Минска. Но Пятрусь не страдал самолюбием, и смутить его было непросто. Он с ходу выдвинул новое предположение — о неопределённо широком кольце бытия вокруг Минска, угасающем пропорционально удалению от центра.
— Но почему бытие непременно должно угасать или обрываться? — нападал Лявон. — Почему не предположить его бесконечность? Вполне традиционное решение вопроса.
— А как вы объясните в таком случае песенное прозрение? Кстати, какой эффект дают песни там, где вы сейчас?
— Эффект примерно такой же: ясность мысли и радость жизни. Но нельзя же подгонять под воздействие песен всю картину мира, согласитесь, — Лявон чувствовал, что уловка удалась, и Пятрусь отвлёкся от женского вопроса. Он чувствовал вдохновение, и продолжал: — Возможно, прозрение не показывает нам факты, а даёт только вектор для мысли? Оно не утверждает, что пространства и времени нет, но указывает направление, в котором их нужно искать?
Пятрусь внимательно слушал, и Лявон перешёл от теорий к практике: он подробно рассказал о всех необычностях, замеченных им за пределами Минска. Строго говоря, настоящая необычность была только одна: они с Рыгором добрались до Кленовицы слишком быстро. Лявон подождал, пока Пятрусь сбегает за картой и прикинет правильное время, нужное для такого путешествия. Получилось, что идти нужно было не менее четырёх дней. Пятрусь торжествовал:
— Видите! Всё-таки нарушения топологии налицо! Лявон, я в очередной раз рад, что имею удачу работать с вами. Сейчас переломный момент. Возможно, мы стоим на пороге революционного научного открытия!
Лявон, уже зная, что поток красноречия лучше подавлять в самом начале, предложил продолжить исследования завтра утром, а пока отдохнуть и собраться с мыслями. Со вздохом облегчения он повесил вспотевшую трубку на рычаг. «Почему меня вообще волнует мнение этого Пятруся? Боюсь его разочаровать?» Но, несмотря на сомнения, перед сном он с особым тщанием завернулся в мокрую простыню и стоял у открытого в ночь окна почти полчаса.
Утром он сказал маме, что должен съездить к бабушке, пригласить всех на свадьбу, ведь времени осталось совсем мало. Она одобрила поездку, но Лявону, внимательно наблюдающему за её реакцией, в мамином голосе послышались нотки неуверенности. «Как же ты, такой больной, поедешь? Нет, езжай, езжай! Движение — это жизнь, говорил китайский мудрец. Погода снова хорошая, пусть солнышко тебя погреет. Возвращайся к ужину», — мама погладила его по плечу и попросила заехать по пути к Алесе, позвать её на очередную примерку платья.
В этот момент зазвонил телефон, и Лявон, сказав маме, что сам ответит, пошёл на кухню. Он уже начинал сердиться на Пятруся — сколько можно надоедать! Но это оказался Адам Василевич, который вкрадчиво спросил: сможет ли Лявон приехать в Минск для прохождения практики? Он обо всём договорился с Пилипом. Лявон сказал, что сейчас ему было бы очень неудобно возвращаться в Минск, не позволяют семейные обстоятельства. Адам Василевич отнёсся к отказу лояльно и пообещал позвонить ещё раз, поближе к началу учебного года. Лявон холодно попрощался, с неприязнью вспоминая ежедневную учёбу, сидение на бессмысленных лекциях и дурацких экзаменах. «Не вернусь туда», — подумал он отчётливо.
Телефон зазвонил опять. Лявон вздрогнул и сердито схватил трубку:
— Кто?
— Привет, Лявон! Куда ты подевался? Это я, Янка! Давно не виделись! Зашёл бы, что ли?
— Кто это? — спросила мама, входя на кухню.
— Друзья, мам. Сокурсники, — отвечал Лявон, закрывая ладонью микрофон.
Тем временем Янка начал декламировать свой свежий стих, проникнутый, по его словам, блоковским настроением:
Волоокие сволочи
Мне всю душу сгубили.
Ни одной малой мелочи
Загубить не забыли.
В ризах чёрных, резиновых
Ночью в ставни стучали,
Мышек малых да ласковых
Сапогами пугали.
Пусть умру я, поруганный,
Пусть погибну, оболганный,
Но презренных предателей
Прободаю проклятием!
Лявон поспешил распрощаться с Янкой, сославшись на то, что его ждут. «Какая чушь. На кухонную тему у него получалось лучше», — думал он, пристраивая рюкзак на багажнике велосипеда. Мама вышла на крыльцо и смотрела, как он выводит велосипед за ворота. Он помахал маме рукой, затворил калитку и обстоятельно высморкался. Перед мамой и Алесей он старался не проявлять признаки простуды.