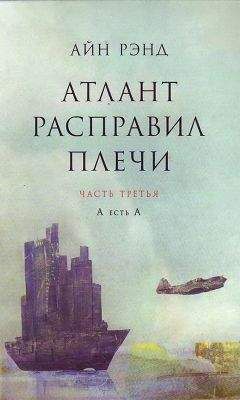Новый Мир Новый Мир - Новый Мир ( № 8 2006)
Пространные сети для отлова прошлого Цветков закидывает не только в свою историю с географией. Сенека, Шекспир, Ницше — актеры на первых ролях в его походном театре, играющем, по сути, мистерию вечного возвращения о сорока девяти сценах в стихах. Вторые роли порой переигрывают первые: как ни мастерски воскрешает автор жизнь замечательных людей, какие гимны ни исполняет в их честь, этот новый гуманист проникновеннее всего поет про не замечательных: “блаженство что сентябрь и снова звезды оземь / из нежной пропасти слепые светляки / и то что мы живем превозмогая осень / неведомы нигде и так невелики”. Неслучайно, должно быть, самые терпкие слова продиктовала ностальгия по человеку:
нас ночь разводила и наспех совала в метро
там пристален люд и народ астеничен рабочий
в коротком углу приблизительно я или кто
плечами впечатан в молву и мурлом неразборчив
какой-то он давний по виду двойник отставной
чей пульс пеленгуя часы отбивают победу
но нет постепенно которые были со мной
и негде добиться куда я так тщательно еду
бузило нетрезвых когда нас пускали в метро
числом человек молодежи в ком знания шатки
пока в переулках по сущие бедра мело
их нежную внутренность то бишь и не было шапки
назад в эту зиму вморожен как столп соляной
дворы бездыханны и снежные игры все те же
но где отовсюду которые были со мной
и не были даже которые тоже все реже
я вырасту бродским природы я всех сберегу
разборчивой речью с прилавков шумя тиражами
кто там на излете маршрута дрожали в снегу
дружили однажды чтоб с песней в метро провожали
портвейна рубин или спасской жирафья звезда
где смех вам не молк и с барханов сахары заметно
пусть светит оттуда какие вы были всегда
а мне до конечной в ночи обо всех незабвенно
Игра языка на уровне tour de force. Мелодия прозрачная, комментарии излишни, а что касается единственной подводной строки “я вырасту бродским природы я всех сберегу”, то в ее емкой и глубокой метафоре манифестируется, по моему разумению, и сближение поэта с простым смертным, и противостояние усилившегося лиризма позднего Цветкова “безличной” лирике позднего Бродского, и противостояние парадигмы вечного “я” живой природы у Цветкова парадигме неодушевленного мира у Бродского. Полушутка “бродский природы” проговаривается о давнем негласном соперничестве двух поэтов, заложенном хотя бы американским издательством “Ardis”, которое открыло в стихопечатании только Бродскому и Цветкову зеленую улицу ( “я пел в набор” — вспоминает Цветков в эссе “У нас в Мичигане”7).
Читать иные стихи Цветкова — поистине грызть гранит науки. Причем это не готовая наука, а грызомая самим поэтом в процессе ее разработки на глазах у читателя. Вот начинается очередной урок алогики:
так скажи не кружи в уме а если если
в переулках обломки топота и толпа
словно выхлоп из глоток стреляет стальные песни
в кристаллическом воздухе что же тогда тогда
В попытке постичь непостижимое — смысл существования для смертного “я” — разрываются причинно-следственные конструкции типа “если, тогда”, рождая смятенную темную музыку рефлексии: “если если”, “тогда тогда”. Непостижимое непостижимо именно для мысли: “и хоть вещи-в-себе за пределом причин и следствий / в голове слипаются мысли на если то”. Поэт размышляет замысловатыми образами, и, хотя в глоссолалию не впадает (он — смысловик), не все его тропы легко проходимы читателем. Да и им самим, такое складывается впечатление, хотя он и пытается постичь смысл существования “как старинный сенека под аккорд монтеверди / но не вопленик впалый с разодранным ртом во лбу” (не как Иов?). Ответ он все же находит — тот, который читателю известен заранее, — любовь:
летний блеск с высот и фасеточный мир в подарок
здесь любовью сердце и речью в прах изотри
по всему околотку такой торжествуй порядок
вопреки уму чтобы пламя шло изнутри
полюби под крылом перелетную в липах область
перед дверью наружу расплакаться и обнять
чтобы прерванный срок приоткрыл свой закон и образ
как теперь навсегда но не если тогда опять
Точка “опять” неумолимо возвратит к началу решения задачи (полюбить жизнь раньше смысла ее) в будущей инкарнации “я”, хотя в прерванной смертью жизни задача была решена на таком эмоциональном подъеме, что, казалось, — “навсегда” в вечности.
Вот что еще ново для интонации Цветкова помимо усиления косноязычной музыки — неуравновешенность неофита любви к жизни, когда он вчера, измучившись абсурдом жизни, сегодня ее снова любит. Тогда смысловые слои, сдвигаясь и перемешиваясь под его дирижерской палочкой, с точной интуицией отбрасывающей избыточные семантические звенья, создают гулкое пространство, где много воздуху и тропы не переплетены в трудно распутываемый клубок.
Игровая природа цветковской музы, случается, берет верх даже в самые гармоничные состояния духа. Вот как светло играет цветковское вечное “я”: “всех пращуров печальный улей / созвездий в сумрачной красе / чтобы кому еще не умер / из них завидовали все”. Согласуй мы все члены предложения, восстанови пропущенные служебные частицы, расставь пунктуацию, прочли бы: все созвездия в сумрачной красе — печальный улей пращуров того, кто еще не умер, — ему завидовали. Прочли, поняли — и вернулись в музыку, играющую самими секретами поэзии.
Цветков-поэт всегда жил богачом в мировой культуре, и жизнь по ее средствам — существенная часть того света, что освещает подтекстно суровую земную участь его лирического героя, освещает “фотонами” языка собеседников в пространстве и времени, согревает энергией как искусства, так и науки: поэтика Цветкова все увлеченнее работает на тропах от науки. Не о великих ли своих собеседниках он говорит, подытоживая свой новый путь: “вот и первой свободы смертельный глоток / чтобы верили гордо и не горевали / все ступившие прежде в фотонный поток / все идущие вслед кто остался в реале”? Он говорит о тех, кого вычисляет его формула самосознания: “я видимо вечный который / не помнит что я это он”.
Разумеется, в следующей сцене своего театра сознание Цветкова переместится в тень — не потому, что того требует эстетика контрастности, и не оттого, что автор подвержен резким перепадам настроения, а потому, что сама структура бытия амбивалентна в каждый миг, потому что она формирует контрапункт.
Последние слова книги выводят-таки к источнику света. Но какого? — “без пользы вся езда / глаза слизнуло светом / здесь тензор и звезда / и тайна только в этом”. К своему амбивалентному свету автор нас уже подготавливал: “полюби этот вакуум бедный / в беспросветных парсеках село / праздный разум что каторжник беглый / пусто в черепе в небе светло” — самоирония сбежавшего с каторги, обжитой как дом. “Глаза слизнуло светом” — ослепительно красивый, не слишком светлый образ света. Тем и интересен.
Физико-математическую метафору тайны бытия по Цветкову, возможно, раскроет тот, кто знает тензорное исчисление. Метафору, не тайну.
Если вечное во времени “я” перевести в пространство, получится “ты”, другой. На подобную метафизическую операцию духа уходит полжизни, а то и вся жизнь человека, да и не всякого. Тайна “я” остается, но тайна “ты” менее иссушающа — хотя бы потому, что в игру может вступить любовь. Нет, любовь не решение онтологического уравнения, а его параметр, и значение этого параметра резко возросло в поэзии Цветкова. Иногда даже не на пользу искусству: ну куда годится эта последняя прямота из арсенала цветковского эстетического плюрализма: “и уходя припасть к тростнику и камню / без вериг и веры с сердцем полным любви”?! Правда, столь блекл поэт был только однажды, блеклость забудется, а запомним мы терпкую игру в другой сцене его театра светотени:
сентябрь и серп жнеца когда бы только знали
всегда как вьется свет волнуя и слезя
как точно сложится все что случится с нами
мы жили бы давно уже не жить нельзя
осины у ворот их медленное стадо
из земноводных уз зеленый водолаз
им невдомек пока что умирать не надо
когда стоит любовь как полынья до глаз