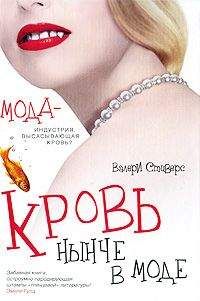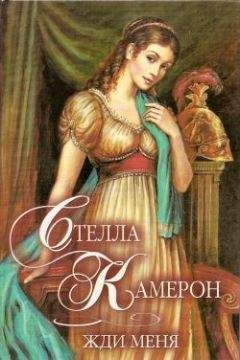Владимир Гусев - Дни
Дорожка, однако, снова забирает все круче; это мы обогнули гору и приближаемся к подъему на нее.
Вновь компания приумолкла.
Мы молчим с Алексеем; перед нами — образы реальные и духовные.
Мы выходим на луг — на поляны, предшествующие гребню; кусты, деревья позади постепенно; с ними отстает, как бы забывается сзади, клубится там, с ними, сам в себе уют гор — и медленно, молча, возвышенно разворачивается — величие и размах.
Последние десятки метров; горы тут скрадывают расстояние, но все-таки видно, что — последние; луг, травы; красочно-пестро, желтовато (тонкий скрытый фон), зелено; трудные метры, но — весело, весело на душе: виден, виден итог, свершение — вот оно; шаг… шаг.
Мы выходим на гребень; море в тумане, ветер; далеко… далеко видно; слово далеко — главное из слов ныне — главное из слов в ситуации, когда слабы слова как слова; картина из тех, что нельзя описывать, по завету Чехова: опиши правдиво — и выйдет неправдиво; но поражает и странный аскетизм величия — высокого зрелища; с одной стороны, вот — свершение: это — из тех редких свершений, что не разочаровывают; тут все, что нужно гордой душе: вокруг — прекрасные скалы и солнечный, желто-зеленый луг — гребень хребта; вдаль — море — море; что добавить? Оно так же велико, как и там — выдерживает любые подъемы над ним; лишь простор еще глубже, еще мощней; лишь туман там, вдали, еще таинственней, лучезарней одновременно; лишь круче ветер; лишь выше само чувство простора.
Кажется, гудение, музыка идет оттуда, от моря, и от всего простора — горы… горы, скалы; кажется, само гармоническое начало мира проступает въяве, и этот дух музыки — он оттуда — от этой яви.
От этого тайного, ставшего явным — явным.
Но «одновременно», да, скромность, и простота, и аскетизм есть в мощи, в величии; «одновременно» — тоже не то; оно — одно; оно — исходное; ничего пышного, ничего сочного, влажного, ядовитого нет в окружающем строгом мире; стоят эти скалы — верх вершины — величественные камни; сдержанно и желтеет, и зеленеет «альпийский луг» — хребет гребня; небо не яркое, а бело-голубое; торжествует великое солнце, но оно торжествует — здесь, в выси, — оно торжествует не в ризах, не в радугах, а — не предметно, медленно, в строгом просторе; море — море и дальне и просто — в тумане, в дымке. Сдержанно голубое сквозь живо-серебряный дым простора.
Открытые восклицания ведомой компании были ответом на наше явление наверху; та́к должно. Мы с Алексеем улыбались — хозяева, довольные похвалами гостей.
— Куда же ныне? — далее говорил Миша. — Наверно, туда; но жаль миновать вершину.
Мы действительно стояли так, что, если лицом к морю, направо шла тропа — продолжение всего нашего маршрута; налево же поднимались камни — вершина той горы-массива, которую мы только что обогнули. То есть гора эта была уже как бы пройдена, хотя мы не были на вершине.
— Сходим на гору, это недолго, — сказал я. — Тут осталось-то… сто метров.
— Да, но бывают сто метров и сто метров, — добродушно промямлил (лицо-улыбка) Миша, не скрывавший неопытности в этих делах; это, конечно, была куда более верная позиция, чем натуга. — Вон, круто.
— Ничего, залезешь, — сказал Алексей.
— Пойдем! Пойдем! — сказали решительно дамы; ибо у «современной женщины» самолюбие вечно возьмет верх над усталостью.
Ей невдомек, что человек, который доказывает, тем самым вызывает подозрение; просто, истинно лишь то, что не требует доказательств. Но это к слову.
Мы полезли к вершине.
Тут было царство камня; неодолимое влияние имеет камень на мою душу.
Не мне доказывать, как близко мне «все живое» — все явно живое: все «самодвижущееся» и зеленое, и цветущее; но камень — особое.
Камень чист и тверд, и в нем — реальное средоточие «космоса», неба и света — света; кто́ бы знал, как строг и при этом жив — строго жив камень; притом любой — любой природный, подлинный камень; вон они — серо-белые — известняки иль кварциты, что ли.
Но слаб, слаб человек — слабо сердце; и любим мы — любим мы явную красоту и в самом камне; она напоминает нам о жизни и радуге; она напоминает — о райских садах — дивной сказке любого нашего детства; причем странное дело: ни один сад как сад, даже пышный, не напоминает нам о снах — о «садах»; и лишь камень, в его зорях, уводящих прямо в глубь, в сон и в толщу жизни, Жизни, — лишь камень говорит о ясном, о суровом, что вместе — и радость, и свет забвения.
Это было место и агатовых, и сердоликовых крапинок, «жил»; и яшмы, и аметисты, и разное прочее и жило, и «попадалось» тут; слишком чопорные слова не шли впрок; и даже халцедон, и особенно он, не хотел выговариваться, хотя многое тут, по сути, принадлежало ему — и агаты, и сердолики: его производные; но важно самое чувство: камень не задушевен, он духовен; помню, в детстве напал я, в отцовой-материной книге, на таблицу — «Камни»; и зоревым, и ярким, и райским садом повеяло на меня с твердой глянцево-праздничной бумаги; я не знал… я хотел… Теперь-то я понимаю, что все таблицы льстят природе — и не могут достичь ее: ее сути; оттого и льстят… Но здесь во мне извечно возникало исходное детское чувство; вон россыпь — и весело умиляет под серым верхом розовая, двойная (разделенная серой же полосой) волна-линия; причем видно, как это и всегда бывает в природе, — просто и ясно видно исходное единство и соответствие; возьми камни порознь (что и делается) — и до чего необычно будет зрелище; но вон они лежат, и сразу видно, что все они произошли из одной большой «жилы» — из целого; и — растрескалось оно, что ли; и вот — вот он регион, атмосфера розовых, серо-розовых этих камней; и возьми один, увези — и там, там, вдали, в иной жизни, все будет казаться, что он, один, — что он неизвестно откуда… Некая лава жизни вышла тут на поверхность; вышла — ушла назад: но видно, что то была — жизнь, сама жизнь; и к ней — нет вопросов; а к тому, к одному камню — будет вопрос.
Так…
Так… так.
Но вот кончилась сердоликовая, сердоликообразная россыпь, место; тут уже — просто камни: серые, бурые, серо-белые, острогранные и зазубренные; тут они и эти, зеленые — темно-зеленые и одновременно более сочные по цвету, хотя чистота, и гладкость, и твердость камня скоро снимает растительные, нечисто-влажные ассоциации; и такие — светлее, желтее и при этом более скромно зеленые — как их; как оно, вообще, — это зеленое? ведь оно местное; ах, забыл… уж эти названия… Вот: отторжение ума, мучающего свободную душу: зеленое — трас, родич туфа; белые прожилки и «подушки» — те, те — это кахалонги; бывает — бывает и горный хрусталь, и дымчатый халцедон, и гелиотроп — каковы названия?! Халцедоны «с розовым огонечком» (как говорил знаток) — это опалы; яшма бывает парчовая — в золотую крапинку, а бывает…
Хватит; великая природа не имеет названий — даже красивых; или имеет лишь те названия, которые стали заговорным корнем ее самой; которые идут из лавовых стволов; таковы для этого места — сердолик и агат.
Вон и начались голубые, бело-голубые волны на сером камне; агат — агат.
Подбирать?
Но велики камни; но осколки их, которые попадаются, хоть и редко (не дремали до нас туристы), — осколки их не дадут понятия о тайном целом; но есть чувство… Есть чувство, из-за которого мы клянем свою натуру впоследствии — вернувшись из этих мест — в другие места: «Ах, дурак. Ах, зачем не брал».
Это чувство состоит в том, что нечто, в изобилии лежащее тут на своем месте, — что оно и лежит на своем месте; и что ничего особенного тут нет.
Так на Кубе мы не берем ракушек; так в Монголии не собираем мхов — оранжевых, зеленых и охряных, и синих, и фиолетовых; так отсюда мы…
Так отсюда мы не берем всех тех камней, которые «надо б взять»; о которых будем вспоминать дома, зачем не взял.
Мы весело поднимались; путники более-менее приспособились; они поняли, что мы движемся с интервалами, и уж начали острить понемногу:
— Вожатые: что-то сами помалкивают.
— Небось и страдают больше нашего, да стыдятся.
— Ох, братцы. Камни сыплются из-под меня.
— А песок?
— Алеша, скажи хоть слово.
Мы с Алексеем вяло отвечали и лезли; вот она и вершина; буро-бордовые, седовато-пористые базальтовые, гранитные и иные скалы из древних, исконных лавовых пород стояли пред нами впритык друг к другу, явственно напоминая, что некогда они были одним огненным, густо-кипучим телом и что лишь позднейшие трещины — солнце, ветер! — развели все на условные отдельные глыбы; цельные лбистые основы по-прежнему держали на себе многотяжкое здание, и спокойно смотрелись трещины на фоне этой округлой мощи; в них, в щелях, росли цветы из почвы, внесенной ветром, — и мирной казалась судьба этих трав; было видно по желто-зеленым склонам, как некогда катились густые, глухие куски огня; как сужались реки эфемерно светлого, дымного гранита; как все миллионножаро лилось, густело и плавилось вновь, и двигалось, двигалось в этом мире; но ныне стояли скалы, как бы секундно отвердевшие вполшага, вполоборота, в четверть движения во всем своем беге; и, как конфетные обертки, мелькали годы и более мощные «отрезки времени» над этой сказкой о мертвой царице.