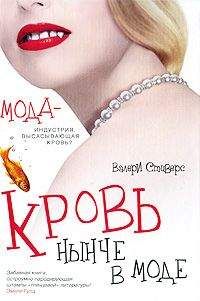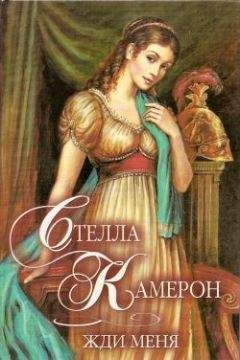Владимир Гусев - Дни
И ведь всякое перемещение имеет свою житейскую логику; оно приводит куда-то.
Вот мы и у ворот.
— Ну что же. Вам куда? — Неизбежное!
— Мне! А вы — а вы что делаете-то?
— Как что делаю?
— Ну, дальше?
Мы тут оба на «вы», конечно.
Позднее, однако, у нас бывало и то, что и при самом начале, после базы: я на «ты» — отец я, папаша; она — на «вы». Потом она переходила на «ты», потом на «вы», но после об этом.
— Это вечером, что ли? — ясно ставит она точки над «i» своим чуть нечистым, чуть носовым голосом.
Это в определенной интонации он такой; в другой интонации он грудной и чистый.
Мы действительно слишком однозначно определяем свои голоса; а они — разные…
В положениях наших разных.
— Да: вечером.
— Я свободна.
Спокойное, ритуальное.
— Так вы как…
Я договариваюсь слишком долго: есть для меня процесс первый.
Она приходит вовремя; она, надо сказать, всегда приходила вовремя, кроме… кроме. И работала она хорошо.
…Собственно, почему в прошедшем времени? и работает.
Для меня, надо сказать, — думаю, и не только для меня, — есть особое обаяние в красивой женщине, которая хорошо работает.
Будто она скрывает нечто.
Она пришла вовремя, но я не буду долго об этих свиданиях; скажу лишь, что я как-то мучительнейше целовал, обнимал ее после кабаков на улицах. И это, как и водится, в ту эпоху привязывало ее ко мне: на второй раз она сама явилась, вызвав меня с середины моего семинара и, в пустом коридоре, прямо глядя и ничего не говоря. Глядя «спокойно»: тут на письме уж точно будут кавычки. Этакая… покорная мегера…
Но в самих-то кабаках мы сидели и плохо и неуютно; ныне одна из первейших моих ассоциаций в связи с нею — чувство темного (морально темного), оголтелого кабака, мелкое чувство постоянной малой опасности: она, как блюдо меда, неизбывно привлекала к себе всех ос, и шершней, и шмелей и не противилась этому… И ее скрытность, и отчуждение; и ее фраза: «Так не понимать…» (душу).
Это я: это я не понимаю женскую душу…
Поделом: я отчасти кривлялся, рисовался…
Но происходило это оттого, что я чуял лед некий; лед!
Лед!
Я не знаю, в чем это именно в ней сказывалось; в неразговорчивости ее, что ли?
Но порою она бывала и разговорчива; она, как это случается с женщинами, притом часто как раз с зависимыми от тебя внутренне, вдруг начинала молотить чушь, вдаваться в подробности; иногда она и «умолкала» — молчала подолгу, но в этом ее молчании не было, мне кажется, враждебности или сухости, или тайны; я и спросил ее — и она ответила:
— Да нет, что ты? Ну, я такая; я вот молчу, и все. Тут нет ничего такого. Я иногда болтлива; а тут — молчу. Это после болезни. Иногда — так.
— После болезни — какой?
— Ну… это долго… да у меня полно болезней.
— Например.
— Например, язва… была…
— У тебя?! Язва желудка?
— Да.
— Так, во-первых… Во-первых, ведь это должно быть видно: по коже, по — да мало ли. И пьешь ты, как…
— Ну, пью, ну, и да. Но я пью крепкое, я сухое там, шампанское, стараюсь избегать, — терпеливо разъясняла она. Она, и нередко, вдруг тоже принимала тон родителя по отношению ко мне. — А кожа у меня темная; ты разве не заметил? А темная кожа — она не отражает… Но если приглядеться, то видно. Шелушится иногда… Но у меня косметика. Накрашенный и ненакрашенный человек — это совершенно разные вещи.
— Зачем ты красишься; ты и так…
— Ну, это все понятно. Но мне идет.
Я вынужден был согласиться.
— И все же, все-таки: я, например, втайне люблю, когда женщина вся естественна: и внешне тоже. И почти все мужики…
— Ну, во-первых, не все. А во-вторых — зачем вечно говорить то, что и так понятно? Зачем всегда выговаривать то, что и так, без слов и без расчленения, должно быть понятно? — высказала она одну из любимых своих жизненных платформ-постулатов. Конечно, внешне жизненных…
Я заметил в ее речи эти два слова: нарочитое «человек» вместо «женщина», — тем самым она — ах, коварная, ехидная нечаянность жизни, ее речей в самой их нарочитости! — тем самым она как раз напомнила, что она — женщина; и это «вечно» — это женское, семейное «вечно», когда мы, по сути, едва знакомы.
— У меня и туберкулез был. Начинался, — неожиданно добавила она.
— Ну, ты даешь, — спародировал я голосом настрявший оборот. — Но это все?
— Нет, не все.
— Не хватит ли?
— Вот… выходит.
Я тактично ждал — мало ли какие болезни; она молчала.
— Ладно. Так из-за чего мы сегодня ссорились? — перевел я разговор (дело было на улице, я провожал ее) — испытывая любопытство, но сохраняя форму; мне иногда удавалось это с нею.
— Да, мы ссорились… Ты знаешь, я терпеть не могу ссориться. Зачем ссориться? Ну, зачем ссориться? — вдруг спросила она с напором. — Разве нельзя без этого?
«В самом деле — зачем?» — думал я; она порой обладала… этим прямым влиянием истины.
Впрочем, женщинам это вообще свойственно… Дело за малым — за истиной.
Мы шли.
Я не знал, в чем ее холод; но он — был.
Я говорил ей об этом…
Она вроде понимала — и объясняла болезнью, которая — последствия от которой — в это время года обостряются; болезнью, о которой она «скажет — потом».
— Как ты ко мне относишься?
— Я к вам, Алексей Иванович (она мгновенно переходила на «вы» и на вот этот тон), очень хорошо отношусь; а так… так что ж. Такая уж я… сейчас. Я вот и молчаливая стала.
— Ну, ладно.
Притом любопытно, что хотя это все началось с заявления о пустой отцовской квартире, — какой мужик не заметит таких слов, да при всех этих взглядах! — но далее, при свиданиях, она, что тоже умеет женщина вообще, а такая в особенности, — она искусно уводила от сей темы, будто ее и не было; а я не настаивал — «раз так» — у меня, повторяю, своя амбиция; она была из тех, что считают — «мужчина должен все устроить»: так и говорила она. Правда, она это говорила не о технике любви, — мы, надо сказать, эти темы вообще с ней не обсуждали, — а о чем-то ином; с другой стороны, она совершенно добродушно — без раздражения дожидалась в разных очередях и пр., когда я, полный дурак в этих делах, таскал ее по всяким чужим мне кабакам. Ибо свои, при нашем «круге» и, как ни говори, «положении» ее и моем не всегда были удобны… Вообще она была женщина во всем, что касалось ритуала, постановки, внешнего поведения с мужчиной и чувственности как таковой (как выяснилось потом); но она была мужчиной — мужчиной — в чем?
Как определить.
Но попробую: не через тезис, а через дальнейшее изложение…
Вот… такое.
Из письма подруге Люсе
Живем мы ты знаешь как. Много мелких хлопот. Не знаю, что летом делать — да, наверно, никуда не поеду, во всяком случае вначале. Скучно везде. Одно и то же. Уехать бы в глухую деревню, ну и все такое прочее. Хотя здесь, по крайней мере, более весело. С Алексеем свет Иванычем у нас, кажется, «разрыв», ну и шут с ним. Еще один эпизод в жизни. Да и был ли эпизод? Эта Куба… Люся, ты знаешь что, посмотри там — нет ли там голубой кофты из…
Громадная тень сместилась на той горе; спутники давно поглядывали — отдохнувшие, уставшие от отдыха. «Что ж? Где же город усопших? — было в их взглядах. — Не мы ли усопли здесь? Что ж, наши проводники?»
Миша — второстепенный герой и того, и того измерений жизни — сказал уныло — впрочем, со всегдашней своей мягчайшей — в морщинах — улыбкой:
— Братцы, пойдем? А, братцы?
Мы с Алексеем взглянули один на другого — мы рассмеялись и поднялись; Алексей, неудобно опершись ладонью о камень — возврат, неловкость! — я — более тихо; на сей раз мы оба возглавили шествие; шли рядом, но молчали.
Спокойная горная, если можно так сказать — внутренне горная природа продолжала окружать нас; гребень перевала или вершина, «пик» — это горы в их величии; но есть еще уют гор — жизнь, «быт» этих террас, выемок, поворотов; сверху вокруг ощутимо для ума давление прямой тяжести громад; но именно поэтому — как под защитой отца, великана — впитываешь особую дремоту, сладостную затерянность в мире и самого себя, и всего близокружающего; незримая, но чувствуемая отъединенность горами от всего мира рождает настроение, подобное настроению жюльверновских колонистов на их необитаемом острове; вы идете — колючие, твердые деревца-кусты постоянно смыкаются и размыкаются; остро каменистая тропа то понижается, то повышается, то плавно загибает вправо — в сторону долины, — то уходит вверх влево, как бы углубляясь в самое гору и направляясь в тайные хоромы «Медной горы хозяйки»; время от времени, выходя на покатые поляны и на террасы-поляны, она, тропа, открывает как бы отдых для твоего взора, для сердца и для себя — открывает высокие, светло-зеленые, колосистые травы, просвеченные бело-желтым позднеутренним, летним южным солнцем; истинно радостно цветут в траве эти розово-сиреневые, малиновые, ярко-синие, желтые, белые цветы — и крупные, и мелкие, и метелочные, и одиночные, и групповые, и взаимно-отдаленные; по неизбывно-таинственным законам почвы, света и тени, и ветра, и местонахождения, и влаги, и сухости цветы живут регионами, атмосферами; вот снова начались эти узорно-бело-розовые, бархатисто-малиновые гвоздички, гвоздики — и ты уж знаешь, что это не последнее: можешь, пройдя и подумав — «Набрать? Не набрать?», — можешь не возвращаться, следуя известному: «Что имеем, не храним, потерявши плачем», «Хочу того, чего уж нет»: можешь не возвращаться; они появляются, исчезают, они напоминают одиночками, группками — мы здесь; и вдруг снова являются царством, городом, слоем жизни; да вон они… И так идет некое время — под знаком горных гвоздик; их место, их время. Но вот, по неуловимым признакам, видно — кончились; неуловимым? Уж слишком много явилось сиренево-розовых часиков; уж очень ветвист и напорист тысячелистник с его грубыми бело-серыми, как бы пористыми метлами — тысячелистник, который мы в детстве звали — тысячелетник; и, в сущности, не все ли равно?.. Уж слишком настырна пижма — маленькие яичные желтки в соцветиях; уж слишком — и далее. Интуитивное зрение, косо вбирая все это, — вдруг наконец и выбрасывает на поверхность это чувство: гвоздики уж кончились, это — не их соседи и… Словом, далее; бабочки; пчелы, пчелы… Просвечены паутины, некие нити и травы; блестко мелькают серо-сетчатые и одновременно тонко, прозрачно радужные крылья этих насекомых — мух, мошек, оводов, стрекоз и слепней и прочего; темно блестят их синие и черные брюшка, если не мохнаты; стоит тихое гудение, шорох, шорох; загадочно смотрятся разные норы с обсыпанными краями — норы, уходящие под корни, под камни да и просто — под тропу эту в самой тропе; и возятся птицы в ветках, в травах — птицы странно озабоченные, попискивающие и вечно, извечно, неисповедимо таинственные; их пестрые, серые, буроватые спины, грудки, явившись, тут же скрываются в толще жизни и зелени; и стоят кусты и деревья корявые; и царит солнце — царит в самой прохладе и тени; и влага слезно посверкивает в торжественных, «злых» лучах — посверкивает из тени — оттуда, откуда не изжита бодрость ночи; и если раздвинуть крепкие, гордые стебли трав, там — на нижних вбок стрелах-листьях — там тоже блестит еще — блестит и свинцово-ртутно, и матово-серебряно, но — блестит: как бы салютует солнцу и тут же — дремлет — дремлет; и ведет тропа; и впереди — праздничный, захватывающий душу, загадочный гребень перевала — извечное решение, разрешение; и — благое небо над ним.