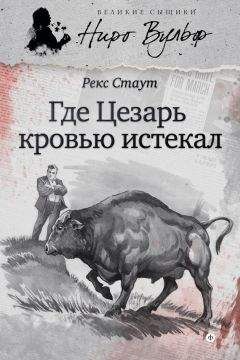Робер Сабатье - Шведские спички
— Салют, Олив, хороших тебе каникул! До встречи!
— Салют, Лулу, салют, Капдевер, счастливо, ребята!..
Оливье остался один на улице, повторяя последние слова, которыми они обменялись: «Салют, хороших каникул, до встречи…» У него мелькнула мысль, что он, пожалуй, не увидит больше своих друзей. Что-то вокруг нарушилось. Улица уже была не такой, как прежде. Она стала холодней, тревожней, опасней. Исчезла Виржини, потом Даниэль, за ним Мак, а вот сейчас Лулу, Капдевер и Рамели… Это было вроде примера на вычитание на черной классной доске:
64 - 9 = 55
Еще остается 55, но все забыли, куда пропала девятка, которую вычли. Разве в муравейнике замечают отсутствие нескольких муравьев, которых где-то там раздавили?
*Оливье плелся вслед за Бугра, который шел, потирая себе поясницу, к булочнику в конец улицы. Тот обслуживал покупателей, стоя за прилавком голым по пояс, и волосы на его груди были присыпаны мучной пылью. Бугра купил килограмм хлеба, а довесок — черствый рожок — предложил Оливье, который принялся грызть его кончик.
— Пойду лягу, — сказал Бугра, — буду читать.
Оливье решил отправиться к Люсьену. Радиолюбитель был в одиночестве, и от этого его комната неожиданно показалась большой. Склонившись над громоздким радиоприемником, он вертел ручку, медленно переводя ее от одной станции к другой и задерживаясь, чтоб прислушаться к голосам, изъясняющимся на иностранных наречиях. Люсьен казался озабоченным и сердито стукал себя по лбу, как будто его раздражало, что он никак не может чего-то уразуметь.
Он не слышал, как ребенок вошел в комнату, и Оливье успел заметить пустую колыбель, светлый волосяной матрасик в сетке, запятнанную подушку; в уголке, отведенном под кухню, — груду грязной посуды, мотки электрических проводов, висящие на стене, и радиолампы с нитью накала самых разнообразных видов. Люсьен был, как всегда, захвачен своей работой, и Оливье пришлось стукнуть дверью погромче, чтобы тот узнал о его приходе. Люсьен обернулся, кадык дернулся на его худой шее, и он сказал:
— А-а, это ты. По-послушай, вот испанская п-переда-дача!
— Ты понимаешь!
— Ну, еще чего захо-о-тел?
Ему трудно было объяснить, что он переживает: Люсьена мучило предположение, что кто-то из радиолюбителей хочет с ним говорить, а он не может его понять.
— Во-от глу-у-пость! — сказал он.
Жена его уехала вместе с ребенком в страну басков. Она там оставит сестре своего малыша, а сама отправится на несколько месяцев в санаторий в Верхней Савойе, где ей сделают пневмоторакс. Потом она выздоровеет, и жизнь снова станет прекрасной. А пока Люсьен очень страдал от одиночества. То, что он тоскует, было ясно всем, и успокаивался он лишь тогда, когда возился с радиоприемниками. А работы все прибавлялось, и не всегда он был в состоянии всю ее провернуть.
— Ты хо-о-очешь чего-н-нибудь выпить?
Оливье согласился выпить кружку пива, чтоб иметь предлог побыть здесь подольше. С пивной пеной на губах оба они одновременно воскликнули, что им стало полегче, и воспользовались передышкой, чтоб сыграть в «филиппина»[17].
— А ка-ак у тебя? Что-нибудь на-а-лажива-а-ется? — спросил Люсьен.
— Все хорошо, — слишком поспешно ответил Оливье. — Этим летом Жан и Элоди в Сен-Шели не поедут, они отправятся туда в будущем году и, возможно, даже меня возьмут с собой. А еще я съезжу в Сог, к моим дедушке и бабушке. Это близко. И увижу там, как подковывают лошадь. Может, и верхом еще покатаюсь.
Оливье не продолжал, зная, что лжет.
Люсьен схватил мальчика за руку и потряс ее, почти весело повторяя:
— Как хорошо, ну ка-а-ак хорошо…
— Мне пора, — сказал Оливье, смутившись.
Люсьен опять помрачнел и ответил:
— Да, да, мне надо по-о-быть о-одному!
Он попытался извиниться. На самом деле, ему легче было тосковать в одиночку. Оливье это понял. Мальчик в свою очередь извинился, и они молча посмотрели друг на друга. Затем Люсьен пожал ему руку:
— Салют, салют, с-славный, с-славный ты парень!
— До свиданья, Люсьен.
Его друг вернулся к работе и принялся с увлечением крутить регулятор приемника. Перед тем как уйти, Оливье еще раз поглядел на изгиб его костистой и сутулой спины. Счастливых людей на этой улице было немного. Он никогда этого не замечал, пока была жива мама Виржини.
Женщины, мужчины куда-то все шли по улице, они то останавливались, то снова проходили. Оливье стоял зажмурившись, смотрел на солнце, а потом ему казалось, что он видит кругом каких-то механических паяцев с ключом в спине, не знающих еще, в каком же направлении двинуться. Никто этих людей не любит, никто не согреет их своим душевным теплом. Вот они и скитаются, блуждают с места на место вроде без всякого смысла, пожуют кусок хлеба, покурят, сходят в пивную. Виржини уже больше не напевает ля-ля-ля-ля, прибирая мотки и катушки с нитками, Паук не греется больше на солнышке, Мак не ходит вразвалку в своем светлом костюме, не слоняются по кварталу Лулу и Капдевер, засунув руки в карманы, в поисках, кого бы еще разыграть, и Люсьен теперь тоже остался один. Как все это нелепо!
В полдень Оливье пообедал вместе с Элоди и помог ей вымыть посуду. Затем он схватил тряпку и принялся вытирать мебель, уже до блеска начищенную его кузиной.
— Ой-ой! — сказала она. — Что происходит?
Ничего не происходило. Просто ему хотелось быть с ней, словно он опасался, как бы и она куда-нибудь не исчезла. Оливье помогал ей чистить картошку, стараясь тонко снимать кожуру и аккуратно вырезать глазки. После этого он сел на диван и стал заботливо перекладывать содержимое своего ранца.
В четыре часа мальчик чем-то закусывал, как вдруг постучали в дверь. Это была Мадо. На ней был костюм из легкой пестрой ткани с оранжевыми цветами по зеленому фону, большая, тоже зеленая, соломенная шляпа с чуть более темной лентой.
— Я уезжаю отдыхать. Не проводишь ли меня до такси, Оливье?
Мадо попрощалась с Элоди, и мальчик пошел за ней, помогая нести багаж. Рика и Рак Мадо поручила заботам привратницы, и та стояла на пороге, держа обеих собак на поводке. Мадо вынула из сумочки деньги и отдала ей. Потом они с Оливье пошли к стоянке такси на улице Кюстин. Мадо напевала песенку «На берегу Ривьеры». Под полями шляпы синева ее глаз казалась более насыщенной и глубокой, изысканные черты ее лица, нежный рот были словно выписаны тонкой кисточкой.
Водитель такси взял чемоданы и положил их в багажник. Мадо сказала ему: «Лионский вокзал», — и он пробурчал в усы: «Я догадался!» Женщина наклонилась и сдвинула назад свою шляпу, чтобы поцеловать Оливье.
— А ты не поедешь куда-нибудь отдохнуть, малыш?
Он прошептал что-то неопределенное и растерянно уставился на дырочки своих сандалий. Потом, собравшись с силами, улыбнулся, протянул руки к Мадо, поцеловал ее крепко-крепко и, стараясь сделать свой голос веселым, произнес:
— Доброго отдыха, Мадо! Вы там загорайте…
— Доброго отдыха, Оливье. Свидимся в конце сентября…
Водитель такси опустил сигнальный флажок, означающий, что машина занята. А отъехав, он высунул руку в боковое стекло и опустил вниз указательный палец. Мадо приникла к заднему окну, приветливо помахала на прощанье, поправила шляпу, и вот уже мальчик потерял ее из виду.
«Доброго отдыха, Мадо, вы там загорайте…» Вот и еще один отъезд! Почему лето всех обращает в бегство?! Ребенок мысленно пересчитал тех, кто остался в городе: Бугра, Альбертина, Люсьен, Элоди и Жан, и решил, что им здорово повезло. После смерти матери любой уход с этой улицы казался ему опасным. Интуитивно Оливье чувствовал, что не увидит больше своих друзей, но представить себе это не мог — настолько это казалось ему чудовищным.