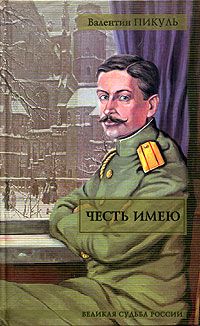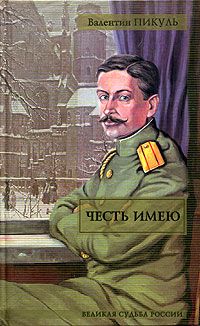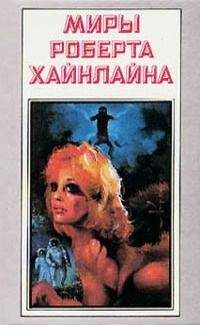Алексей Слаповский - Пыльная зима (сборник)
– Господи, простите дуру. Вы и сейчас…
– Ладно. Я тебя вылечу, – наклонился он ко мне, – а потом своей любовницей сделаю. Ты поймешь у меня, был я или есть!
Я вспомнила рассказы о любвях молоденьких женщин к пожилым мужчинам – и, не верившая до этого, вдруг сразу поверила. И даже задним числом в ту историю, что рассказали недавно: женщина, кандидат наук, под сорок, милая, муж на восемь лет моложе, поехала в Москву на научно-практическую конференцию (они почему-то все – научно-практические). Конференция длилась неделю, и она успела за этот срок влюбиться в седовласого академика восьмидесяти трех лет – и осталась с ним жить. У профессора, кроме возраста, еще и простатит, и другие болезни, в общем – недееспособен. Слушайте, говорила я, не надо про любовь, ясно же, что расчеты тут как раз научно-практические. Нет! – горячо отвечали мне, любовь до гроба, никакой корысти, ей-богу!
До гроба? Ну, значит, недолго осталось…
Мне дали какие-то таблетки, что-то вкололи.
Принесли завтрак. Я, оказывается, лежачая.
Манная кашка, жидкий чай.
Ничего. Я и дома-то не лучше завтракаю – если завтракаю вообще.
Заставила себя съесть кашу.
Значит, уже настроила себя на болезнь – и на последующее выздоровление, для чего надо быть послушной, соблюдать распорядок и рацион, пусть даже он основан на принципе «лопай, что дают».
Соседки по палате завели унылые разговоры, посматривая в мою сторону. И хочется спросить, и – вдруг что-нибудь такое, о чем слушать будет неприятно?
Сама расскажет.
Расскажу, ждите.
Долго будете ждать.
Лишь в больнице понимаешь, к какой тонкой прослойке общества относишься.
Я закрыла глаза: почему-то опять одолевал сон.
Итак, я нахожу человека, который бросил в меня банку.
Прокрутим бытовой вариант, самый пошлый. Он ведь возможен – так почему не прокрутить?
Итак, мне открывает мужланище в майке, живот свисает на тренировочные штаны, лицо красно, шея красна, кисти рук красны, глаза синие (потому что в синих глазах видней красные прожилки). И я начинаю орать. Почему бы и нет? Я иногда умею – как все. «Часто иногда», – говорит мой племянник. Ему шесть. Красавчик, весь в моего брата. И в меня, может быть. «Часто иногда я думаю», – говорит он. Мать, учительница русского языка и литературы, поправляет его: «Или часто – или иногда!» Он озадачен.
«Ладно, часто», – соглашается с неохотой. Я понимаю его. «Часто иногда» – точнее. Иногда – это те действительно редкие моменты, когда он сосредоточенно о чем-то думает. И в большинстве этих редких моментов он думает как раз о том, о чем хотел рассказать, но его перебили. Вот и получается: «часто иногда».
– Ты, жирная тварь! – ору я. – Забыл уже? Ты забыл, гад, как выкинул банку в окно, сукин сын? Ты швырнул банку и поехал дальше, а я по твоей милости чуть не стала инвалидом! Да! Ты попал мне в глаз, я чуть не ослепла, толстая твоя морда! И я пришла тебе плюнуть в харю, хотя и знаю, что таким, как ты, все равно!
– Чего? Ты докажи сперва, сука! – орет он. – Щас ухерачу по рылу, вообще ослепнешь!
И тут я влепляю ему пощечину.
Он этого не стерпит – ни от кого. Ни от отца, ни от матери, ни от Господа Бога. Он в ответ бьет меня кулаком. По рылу меня ухерачивает, как и обещал.
Из рыла брызгает кровь.
Довольный таким быстрым и ярким результатом, он бьет снова и еще, я падаю.
Он вдруг понимает, что если я нашла его из-за какой-то банки, то эти удары тем более не прощу. Он понимает, что должен меня убить. Другого выхода просто нет.
Решившись, он становится спокоен. Он связывает мне руки и затыкает рот. Смотрит, нет ли кровяных пятен на полу. Есть. Вытирает. Больше на полу пятен не будет – он подстилает под меня, грубо переворачивая, большой кусок полиэтилена. Вот теперь можно сделать что угодно. Но просто убить – это просто убить. Раз уж на это идти, то надо выжать из ситуации все. Он так привык. Значит – сперва изнасиловать. Он не спешит, торопиться некуда. Он разводит мои ноги в стороны, привязывает одну к дивану, другую к тяжелому креслу. Привязывает и руки, вытянув их вверх. Середина тела пусть остается свободной, пусть брыкается. В некотором отношении это даже лучше.
Он раздевается и стоит надо мной, глядя в мои расширенные зрачки. Он ведь тайно всегда знал, что безобразен телом, но не давал этому знанию всплыть на поверхность. Теперь – позволяет. В этом даже что-то есть, ему даже жаль, что он мало безобразен, безобразен лишь умеренно.
Хочется еще чего-то.
Он косолапо идет к столу, показывая волосатую спину, наливает что-то из бутылки, булькая, пьет, булькая.
Потом берет нож и неспешно разрезает одежду, отделяет лоскут за лоскутом от тела. Мычание мое его раздражает – еще раз ухерачил по рылу. Я теряю сознание.
Открываю глаза и вижу, что он задумчив.
Теперь он решает, как лучше это сделать. С живой – или с мертвой? Вид бесчувственного тела навел его на этот вопрос.
Нож в его руке.
Кажется, он сделал выбор. Или нет.
Уже приблизил нож, но передумал.
Фантазия его безгранична: он звонит кому-то, предлагая прийти и разделить с ним одно интересное удовольствие.
Ясно. Решил сочетать приятное с полезным, позвал друга, тот будет первый. А он будет смотреть, потом исполнит задуманное, прирежет, а потом заставит и друга пару раз воткнуть в нее нож – связав его с собой кровью.
В нее – это я о себе в третьем лице?
Конечно.
Не всерьез же я представляю себя в такой ситуации.
А почему бы и нет?
Вполне может быть.
Это не самая страшная история из тех, что я знаю.
Колбаса из людей.
Семнадцать изувеченных мальчиков.
Читайте газеты, слушайте слухи.
Пришли мать с отцом.
Боялись чего-нибудь совсем плохого, поэтому рады: дочь дышит, говорит, даже улыбается.
Теперь можно и попенять.
– Сколько раз твердили тебе: не задерживайся! – сказала мать.
– Да ей хоть говори, хоть не говори… – махнул рукой отец.
Он фаталист. Он прав: хоть говори, хоть не говори – результат один. Но если позволить ему довести мысль до конца и дать речевые средства, чтобы ее выразить, он пришел бы к выводу, который вряд ли понравится матери: хоть задерживайся, хоть не задерживайся – разницы нет. И днем могут прибить запросто.
Он фаталист, и это одно из немногих его качеств, которое меня всегда с ним примиряло.
Мать доставала из сумки привезенные продукты, все развивая тему поздних возвращений.
Была б я умная, нормальная дочь, я могла бы возразить: а кто ж виноват, родители, что вы такие бедные и не купили мне квартиру в центре? Никто не виноват или кто-то виноват? Почему вы такие и сякие, а не сякие и такие?
Они бы стали мне отвечать – так бы разговор наш и протекал, и времечко летело бы незаметно, легко и нервно.
Но я молчала.
– Чего врачи-то определили? – спросила мать.
– Ничего особенного не определили. Отлежаться надо.
– Отлежаться! Отлежаться и дома можно. Потихоньку доехали бы, всего-то полчаса-то.
Она имела в виду автобус, потому что такси в Первый микрорайон стоит очень дорого – и эта дороговизна облагается еще добавочным налогом за криминальную славу района, где хоть и мало молодых людей, но они удальцы: двух таксистов ограбили уже, частника перевернули вместе с машиной.
– Просто так в больнице держать не будут, – заметил отец.
– Каркай еще! – одернула его мать.
– Я не каркаю, я в суть смотрю.
Он действительно смотрит в суть. Надо лежать в больнице – значит, надо. Хоть это и не поможет.
Фатализму судьбы он противопоставил свой личный фатализм. У него был инфаркт, но едва оправившись, он восстановил свой распорядок: в субботу – бутылка водки. Не больше, но и не меньше. Независимо от мнения врачей насчет алкоголя. «Пошли они! – говорит он всем врачам сразу, сколько их ни есть. – Водка сосуды расширяет? Расширяет. Ну и заткнитесь!» – «Подохнешь!» – говорит мать. «И так подохну, и так подохну», – с веселым смехом говорит он, с веселым смехом, идущим от чистой души, от чистоты души.
Ему уже было тоскливо в больнице, он не знал, о чем со мной говорить.
Да и мать обо всем уже переговорила. И удивлялась напоследок – обращаясь даже не ко мне, а к моим сопалатницам:
– Вот какие люди! Банкой из машины! Подумайте, а?!
Ее с удовольствием слушали.
А отец сказал:
– Сомнительно что-то. Банкой – и сотрясение?..
Мать тут же встревожилась (она ведь всегда чувствовала, что отец прозорливее ее), сказала:
– В самом деле. Ты не скрываешь от нас ничего?
– Что я могу скрывать? Смешно.
– Может, попала в компанию какую-нибудь? А? Ты смотри…
Назревал монолог, известный мне еще со школьной поры. И чтобы предотвратить его, я сказала:
– Банкой мне только бровь разбили. А сюда пришла, упала, стукнулась. Голова закружилась, и – упала. Он, ну врач, зашить собирался или промыть, а я шлепнулась.
– А он на что был? То есть, получается, ты через него сотрясение получила?