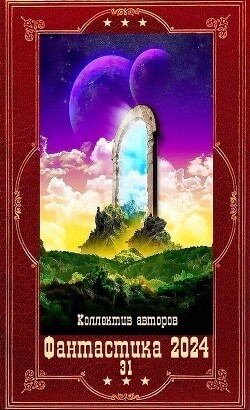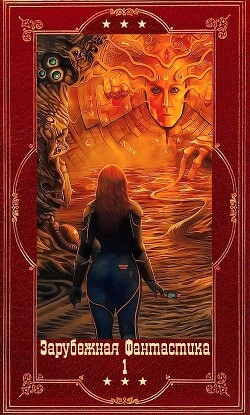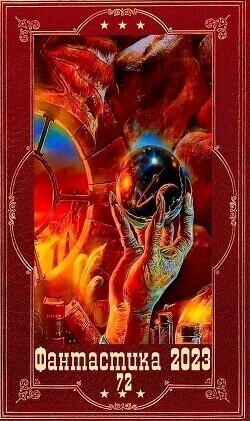Завет воды - Вергезе Абрахам
Он чувствует, как рвутся ткани. Кровь течет сильнее, темная и грозная.
— А кровотечение?
— Это значит, что он еще жив, дружище, — успокаивает доктор, орудуя марлей, как муравьед хоботом, пока не открывает взору бледный гофрированный цилиндр, не толще соломинки для питья.
— Это трахея. Сейчас мы сделаем маленький вертикальный разрез в передней стенке, самым кончиком скальпеля. — Видя колебание Филипоса, он поясняет: — В трахее только воздух, крови там нет. Но глубоко не режь. Мы хотим сделать только маленькое отверстие.
И, поскольку Филипос продолжает колебаться, крепкая клешня смыкается на тонкой кисти мальчика, удерживая ее. Вместе они даже с некоторым изяществом вставляют кончик скальпеля в трахею, где он застревает, как топор в стволе дерева. Лодочник тихо подкрадывается и с ужасом смотрит на рану в горле сына.
— Стоп. Глубже не надо, — распоряжается доктор. — Теперь очень нежно вниз.
Лезвие скользит, как сквозь древесину пробкового дерева. К глотке Филипоса подступает желчь. Он поднимает взгляд: что дальше?
И сразу раздается влажный сосущий звук, исходящий не изо рта, не из носа, но откуда-то из окровавленного горла, вокруг кончика скальпеля пузырится воздух. Грудная клетка малыша надувается. На выдохе тонкая струйка вырывается из раны, и не успевает Филипос увернуться, как она ударяет ему в щеку.
Доктор вынимает скальпель, переворачивает его, потом вставляет тупой конец в щель, которую они проделали, и поворачивает на девяносто градусов, расширяя отверстие. Внутри полой трахеи, соперничая за пространство с бурлящим воздухом, находится плотный сгусток. Доктор вытягивает длинный эластичный кусок, похожий на обрывок простыни. Через маленькое отверстие немедленно начинает с хрипом входить и выходить воздух, с грубым и жадным хрипом.
— Это пленки дифтерии. «Кожа» по-гречески. Ты ведь именно это слово употребил, верно? «Кожа»? И когда произнес его, ты уже поставил диагноз. Это мертвая оболочка горла, которая отслаивается, вся опутанная клетками гноя. Ты слышал о дифтерии? Да, известная болезнь. Сейчас от нее есть вакцина. Умирают от этой болезни только дети.
Филипос видит брызги крови на лице доктора, такие же, наверное, и на его собственном лице.
— А мы можем заразиться?
— Мы, вероятно, уже болели в детстве, неважно, помним мы или нет, так что у нас иммунитет. Этот малыш недоедал, потому не мог сопротивляться инфекции. А для взрослых, если мы вдруг заражаемся, это не так опасно, потому что наши дыхательные пути гораздо шире.
Доктор берет металлическую трубку и вводит ее в разрез на трахее, толкая вниз. Дыхание струится по трубке, жесткое, но ровное. Личико младенца постепенно обретает цвет. Потом он начинает сучить ножками.
Филипос благоговейно наблюдает за воскрешением. Руки его обагрены чужой кровью, и это зрелище вызывает новый приступ тошноты. Момент одновременно сверхъестественный и омерзительный; он чувствует, как парит над этой комнатой, пропахшей едким антисептиком, глядя вниз на младенца, его отца, доктора и на свои руки. Металл, кровь, вода, почка, плоть, сухожилия, белая и коричневая кожа — все едино. Он не испытывает чувства торжества, но лишь безудержное желание сбежать отсюда. Но доктор протягивает ему щипцы с зажатой в них изогнутой иглой с прикрепленной к ней ниткой, и бледная клешня вновь смыкается вокруг его пальцев. Движения порождены не его волей, но Филипос все равно совершает их и пришивает трубку к коже, закрывая рану.
— Ты мой личный секретарь, — говорит доктор своему помощнику, который понятия не имеет, что тот имеет в виду.
Глаза малыша устремлены на них, настороженные и словно готовые что-то сообщить. А потом, заметив своего отца, ребенок тянет к нему ручки, и уголки рта ползут вниз. Он набирает полные легкие воздуха, и лицо уже искажается для могучего рева… но ни звука не доносится изо рта, только воздух шипит в трубке. Малыш удивлен.
— Твои голосовые связки пока вне игры, кроха, — улыбается доктор. — Добро пожаловать в этот чертов мир. Может, ты сумеешь изменить его к лучшему.
глава 35
Средство от всех хворей
Филипос пулей вылетает на веранду, и желудок его извергает содержимое. Горечь и кислота обжигают горло. Он моет руки и споласкивает рот под водосточной трубой. Под ногтями чернеют полоски крови. Он исступленно оттирает руки.
А когда поднимает голову, в нескольких дюймах оказывается чудовищное лицо, плотоядно разглядывающее его. У наваждения дырки вместо ноздрей и безбровые невидящие глаза, и оно чуть склонило голову, будто прислушиваясь к дыханию мальчика. Вопль вырывается из Филипоса сдавленным бульканьем. И от этого звука вурдалак отшатывается, напуганный больше, чем сам Филипос.
Нужно выбираться отсюда. Он должен вернуться домой. Но где именно он находится?
Прокаженный, тот сторож, что встретил их и пытался прогнать, дает ответ на этот вопрос, но Филипос не верит — нет, не может быть. Еще один прокаженный, подошедший к ним, подтверждает. Филипос удивляется, как хорошо им известны все дороги. «Да где только мы не бродили! Или ты думаешь, мы ездили на автобусе? Или на пароме?» Их смех звучит жутко. Прежде общение Филипоса с прокаженными сводилось лишь к тому, что он бросал монетки в их жестянки; кто мог знать, что эти существа разумны и даже умеют разговаривать? Домой придется возвращаться окольным путем, потому что главный мост в Пулате смыло. Это крюк в пять миль в другую сторону, а потом еще десять обратно. Мимо лепрозория автобусы не ходят. Сердце сжимается. Подумать только, а он еще волновался, что опоздает в школу! Похоже, домой он доберется только глубокой ночью.
На улицу вышел доктор, разыскивая его.
— Филипос, да? Меня, кстати, зовут Дигби Килгур. Сможешь перевести?
Они возвращаются к лодочнику, который успокаивает своего беззвучно плачущего ребенка.
— Скажи ему, что я надеюсь, что через двадцать четыре часа эту трубку можно будет вынуть. А до тех пор ему лучше остаться здесь.
— Разве у меня есть выбор? — отвечает лодочник. — Я потерял лодку. Мне больше нечем зарабатывать на жизнь. Ну и что с того? У меня ведь есть мой сын.
Доктор Килгур заметил, что Филипос чем-то встревожен.
Услышав объяснения, Дигби успокаивает:
— Мы отвезем тебя домой. Ты сегодня спас человеческую жизнь.
Доктор сообщил, что ждет друга по имени Чанди, который после обеда должен вернуться из своего поместья в горах — на автомобиле. Шофер Чанди отвезет Филипоса домой.
Ожидание тянется бесконечно, особенно потому что Филипос, страшась заразы, отказался поесть или выпить чего-нибудь. Выглянуло солнце, облака рассеялись, будто утренний ливень был всего лишь глупой шуткой. Филипос находит в саду тенистое местечко и, когда уже совсем нет сил терпеть, набирает воды из колодца и пьет, зачерпывая ладошкой и стараясь не касаться краев ведра. От жары грязевые водовороты и гребни на дороге запеклись твердой коркой.
Автомобиль приехал к полудню. Из него выбрался массивный, по виду состоятельный мужчина и направился к бунгало, где скрылся Дигби. Филипос украдкой прочел название, написанное на табличке на машине: «Шев-ро-летт». Знакомое слово. Есть в нем ощущение движения, этакий щелчок в конце. Звучит именно так, как Филипос представляет себе Америку: земля трудолюбивых честолюбивых людей, таких как обитатели Тисбери и Мартас-Винъярд [149]. Этот автомобиль — как богатый человек, который сбросил свой наряд, чтобы работать в грязи наравне со своими пулайар. Крылья сняты, колеса и механизмы обнажены, и автомобиль грязный, как воловья повозка Куриана, сборщика кокосов. Из-под бампера торчит крюк. На переднем пассажирском сиденье лежит какая-то железяка, завернутая в кусок брезента. Сзади к кузову приварена металлическая платформа, на которой закреплены канистры с бензином, трос, лебедка… и сидит темная фигура, равнодушно разглядывающая мальчика. Филипос заметил человека только потому, что блеснули белки глаз, когда тот моргнул.