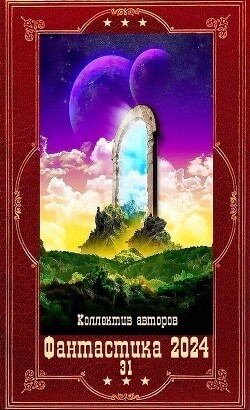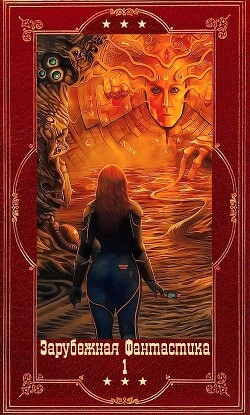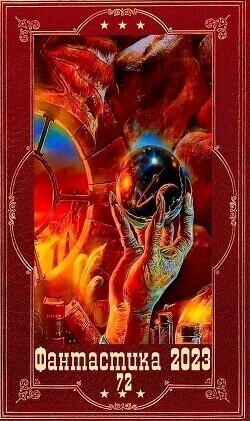Завет воды - Вергезе Абрахам
Через десять дней прибыл ответ. Для управления «Сент-Бриджет» миссия направляет двух монахинь; в будущем они надеются найти и врача. Саркастически рассмеявшись, Дигби комкает письмо. «Но ты же спросил, так?»
В настоящий момент отпуск по болезни Дигби остается бессрочным. А как поступит Индийская медицинская служба, когда этот период закончится? Заставит его вернуться к исполнению каких-нибудь медицинских обязанностей? Уволит без содержания?
Неужели нигде в этом мире нет для него дома? Даже в лепрозории?
глава 34
Рука в руке
Филипос, промокший до нитки, с младенцем на руках, стоял, уставившись на табличку и прикидывая, а не утонул ли он на самом деле? Может, река все же поглотила их всех? Табличка гласила:

Мысленно он перевел это как Лечебный Центр Святой Бригитты / Приют для больных проказой, хотя ниже по-английски написано гораздо короче: ЛЕПРОЗОРИЙ «СЕНТ-БРИДЖЕТ». Это и вправду ворота лепрозория или врата в ад? И в чем разница?
Легкие горят, но, по крайней мере, он вдыхает воздух, а не речную воду. Младенец тяжелый, как гиря, лиловое личико застыло. В лепрозории ведь есть врач или медицинская сестра? Там есть прокаженные, это все, что он знает. Шагнуть внутрь столь же безрассудно, как столкнуть челнок в бушующую реку. Как он объяснит Большой Аммачи, зачем рисковал жизнью ради ребенка лодочника? Аммачи, я чувствовал, что этот ребенок как будто бы я сам. Я чувствовал, что это я тону, борюсь за глоток воздуха, пытаюсь выбраться на поверхность, выжить. У меня не было выбора.
И выбора по-прежнему нет. Он врывается в ворота и бежит со своей ношей вперед. Лодочник понятия не имеет, куда они попали. Небо темное, но изредка свет прорывается сквозь прорехи в небесной ткани. Впереди высится главное здание с черепичной крышей, а вокруг него, словно побеги, домики поменьше, оштукатуренные и побеленные, но понизу, где смыкаются с землей, выкрашенные грязно-красным. Если это ад, тогда в аду чисто и опрятно. Он направляется к главному зданию.
— Что происходит? Сюда нельзя детям! Зачем вы пришли?
Худой мужчина в голубой рубахе и мунду преграждает им путь. Филипосу он кажется похожим на яйцо, с его гладким невыразительным лицом, лишенным бровей и какой-либо растительности. Один глаз у него с бельмом, а нос приплюснут. Лодочник шарахается от него.
— Этот ребенок умирает! — кричит Филипос. — Позовите вашего врача.
— Айо! Наш врач умер! — вопит в ответ человек. — Ты не знал? Он не может тебе помочь.
Откуда-то сзади, услышав перепалку, выходит белый мужчина. Высокий красивый мужчина лет тридцати. Но покрытые шрамами руки, неловко возящиеся с пуговицами, как будто принадлежат старику; глаза у него глубоко запали.
— Если он умер, — орет лодочник, — тогда кто этот белый? Скажи ему, чтоб помог нам, ради бога!
— Я не про этого доктора говорю. Про другого, большого доктора. А теперь убирайтесь! Детям нельзя, я же сказал.
Белый человек вздрагивает от их криков. Рассматривает перепачканных и тяжело дышащих незнакомцев, один — темнокожий, низенький, голый по пояс и худой, другой — мальчишка в промокшей школьной форме, волосы прилипли ко лбу. Мальчик держит на руках полумертвого младенца со стеклянными глазами скумбрии на рыбном прилавке.
— Угомонитесь! — Мужчина по-английски строго обрывает скандалящих, кивком головы подзывая Филипоса к свету. Смысл его жеста понятен на любом языке. — Так, что у нас тут? — бормочет он, склоняясь над младенцем.
— Ребенок задыхался, — поясняет Филипос.
И краснеет, когда доктор в изумлении поднимает на него взгляд. Филипос ни разу в жизни не стоял так близко к белому человеку, никогда не говорил на английском с теми, для кого этот язык родной. В глубине души он даже сомневался, что мир, где люди говорят на языке «Моби Дика», действительно существует.
— У ребенка много белых… наростов во рту и в горле. Подобных китовому жиру. Но жесткие… как кожа. Я загарпунил кусок, и малыш немножко задышал. Но вскоре дыхание вновь прервалось, сэр.
Доктор недоуменно таращится на мальчика, озадаченный странным выбором слов. Загарпунил? Он раскрывает рот младенцу своими неуклюжими руками, скованными, неловкими движениями, начинающимися от локтя, а не от запястья. Жестом велит Филипосу положить ребенка на стол, а сам в это время с грохотом роется в инструментах на лотке, что-то ищет.
— Руни, ну в самом деле, нет интубационной трубки? — бормочет он.
Странности доктора вполне соответствуют этому месту, как будто он, как и белоснежные домики с глиняной полосой снизу, вырос прямо из земли и его руки не успели полностью оформиться, почва все еще цепляется за них.
— Ты, мой гарпунер! Мне понадобится твоя помощь, — приказывает доктор, протирая шею младенца какой-то резко пахнущей жидкостью. — Вы, значит, с ним родственники? — кивает он в сторону лодочника.
— Не родственники, сэр. Я шагал прямиком к школе и, казалось, следовал прямым курсом к месту назначения. — Филипос невольно декламирует, как будто читает роль Измаила. Мелвилл музыкален, Диккенс — чуть менее, а английский Филипоса в значительной степени опирается на громадные куски их прозы, засевшие в памяти. — Стрелка компаса указала на крик, я внял ему и узрел дитя. Отец его устрашился реки… но не я, мне явилась цель, и, благословясь, мы поплыли на челне по воле волн.
— Но почему сюда?
Мальчик, кажется, сбит с толку:
— Божья милость?
Доктор кривится. Он наклоняет лампу пониже к шее ребенка. Пытается подцепить инструмент, но безуспешно. Тычет пальцем, Филипос послушно хватает и протягивает ему скальпель.
— Как тебя зовут?
— Зовите меня Филипос.
Губы доктора двигаются, словно он тренируется выговаривать слова.
— Послушай, это придется сделать тебе, — говорит он и сует скальпель обратно мальчику, рукоятью вперед.
— Нет! — Получилось громче, чем он хотел.
— Этот младенец все равно что мертвый, — шипит доктор. — Понимаешь? Ты ничем не навредишь. Уже сейчас его мозг начинает умирать. Давай же. Ты уже один раз спас ему жизнь.
— Но я всего лишь школьник, а не…
— Послушай, я не могу этого сделать своими руками. У меня была операция. И я пока не выздоровел. И нет, у меня нет проказы. Я буду тебе подсказывать, что надо делать.
Голубые глаза не оставляли ему выбора. Пальцем, застывшим странной дугой, доктор намечает вертикальную линию, по которой Филипос должен сделать разрез в нижней части шеи, где она переходит в грудину.
— Трахея. Вот туда нам нужно попасть. Быстро! Режь!
Филипос видел, как Самуэль перерезает горло цыплятам, но вовсе не для того, чтобы спасти им жизнь. Он проводит скальпелем по воображаемой линии и отступает в ужасе, ожидая, что сейчас хлынет кровь, младенец всплеснет руками и примется носиться по комнате. Но ребенок даже не вздрагивает.
— Слишком мелко. Держи скальпель как карандаш. И нажимай сильнее. Пока не увидишь, как расступается кожа. Вперед!
Он так и делает, и теперь там, где прошло лезвие, появляется светлая полоска, а следом за ней выступает темная кровь, выплескивающаяся, как река, выходящая из берегов. Комната вокруг начинает вращаться, а желудок переворачивается. Доктор, не обращая внимания на кровь и обернув марлей кончик пальца, раздвигает кожу по обе стороны от разреза, обнажая пелену бледной ткани.
Он вручает Филипосу хирургический инструмент, похожий на ножницы, но без режущих лезвий.
— Вставь под кожу и раздвигай, — командует он, показывая двумя пальцами, как надо действовать. Филипос заводит закрытый инструмент под края раны, а затем раскрывает его. Видимо, он действует слишком нерешительно, потому что застывшая клешня доктора стискивает его руку, направляя в нужную плоскость. — Раздвигай. До конца.