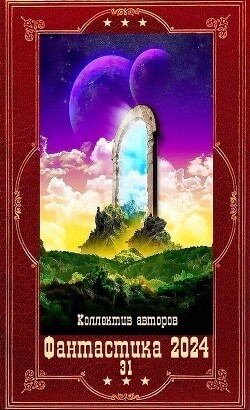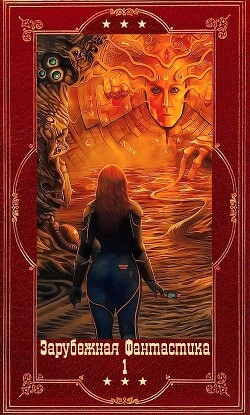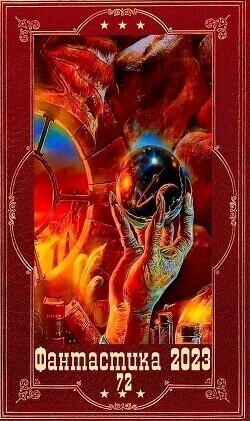Завет воды - Вергезе Абрахам
Поколебавшись, Элси развязывает ленточку, потом кладет свою ладонь поверх его кисти и связывает их руки, теперь и ее пальцы поддерживают угольную палочку. Качнув подбородком, показывает «а теперь попробуйте». Он не понимает малаялам, но с такими условными знаками чувствует себя увереннее.
Движение его руки (или ее?) по бумаге становится мягче, механизм скользит на новых подшипниках. Его кисть несет на закорках ее ладошку, описывая большие, раскрепощающие окружности, — разминка, безрассудная шалость. Она подкладывает чистый лист, и они так же раскованно мчатся по новому полю, разогревая шины, покрывая бумагу петельками и извилистыми буквами S, а потом, на следующем чистом листе, — треугольниками, квадратами, кубиками и заштрихованными пирамидками.
Вид собственной руки, блуждающей по странице плавными текучими траекториями, которые она, похоже, способна совершать, завораживает. Эта картина пробуждает мозг, выталкивая наружу образы, воспоминания, звуки: лопнувший стручок снежноягодника в саду Майлинов; разлетающаяся стайка вспугнутых скворцов; шум прибоя на мокром песке; кожа, расступающаяся под скальпелем номер одиннадцать.
Луч из окна падает на бумажный лист. Он что, светил все это время? Пылинки, будто свободные от силы притяжения, кувыркаются внутри луча, как акробаты в свете прожектора, и это так прекрасно, что у него в груди перехватывает. Свежий лист заменяет исчерканный, будто Элси понимает, что движение благотворно и не должно прерываться; и в самом деле — плавные линии усмиряют спазм в запястье и ладони, замороженная часть мозга оттаивает, порождая всплеск идей, которые рука выводит на бумаге. Он смеется и сам удивляется этому звуку, а его рука — их руки — теперь двигается неторопливо, ловко и целеустремленно.
На бумаге необъяснимым образом возникает женское лицо. Это не Селеста — ее лицо он рисовал сотни раз. Нет, его мать, это ее прекрасные черты постепенно проявляются на портрете: томные глаза, длинный нос, капризные пухлые губы — триада, которая была ее визитной карточкой. Обозначив линию волос, уголь рисует клубы дыма надо лбом, а затем длинные волнистые локоны, обрамляющие скулы.
Это мама в ее счастливые времена, его мамулечка по средам, когда они пили чай в Галлоугейт. Ей бы понравился этот рисунок. «Отличная работа, — сказала бы она. — Чертовски замечательный подарок этот твой талант!» Алхимия соединенных рук, их па-де-де поднялось вверх по его пальцам, по нервным волокнам и высвободило портрет из затылочной коры, вырвало из памяти, притянув образ, отмеченный любовью и смехом.
В медицинской школе он вызубрил диагностическую мимику, ли́ца болезни: застывшие амимичные физиономии при болезни Паркинсона; «маска Гиппократа» больных в терминальной стадии — с изможденными впалыми щеками и висками; risus sardonicus, сардоническая усмешка, столбняка. Его рука, связанная с рукой этой девочки, породила и образ, и форму, вытянув из прошлого портрет, полный любви. Он поднимает глаза на свою напарницу.
Элси, олененок, тоже потерявший маму, знаешь ли ты, что мы каким-то образом сумели совершить то, с чем не справилось само время? Все эти годы единственным образом матери, который я сохранил, лицом, которое вытеснило все прочие, была непристойная, чудовищная смертная маска.
Мама, как живая, поднимается с бумажного листа. Он ощущает запах лаванды, которой она перекладывала свои свернутые кофты, вновь чувствует себя в ее объятиях. Прости ее, слышит он голос.
— Да, — произносит он вслух. — Да.
Слезы беспомощности текут по его щекам. Элси встревоженно поджимает губы… живая подвижная скульптура их рук спотыкается и останавливается. Неуклюжей левой рукой Дигби распускает ленточку и высвобождает ее руку, пытаясь ободряюще улыбнуться.
В день, который никто в «Сент-Бриджет» не забудет вовеки, голос Руни, как и каждое утро, разносился над всей округой — голос звучал с открытой банной террасы позади его бунгало, великан распевал «Хелан Гор», задорную шведскую застольную песню, как объяснял сам Руни. Дигби, работавший в саду, с изумлением слушал, как подпевают трое его помощников. Смысла слов они не знают, но отлично понимают эмоции — это призыв к дневным трудам. Пение сопровождалось всплесками воды, которую Руни зачерпывал ведром из бака, а потом опрокидывал себе на голову.
Но песня оборвалась на середине строчки, а потом раздался металлический грохот. Во всем поместье все пациенты разом замерли. Отбросив мотыгу, Дигби помчался к бунгало. На террасе, с трех сторон закрытой соломенными стенами, неподвижно лежал на спине Руни — рука прижата к груди, кусок мыла, сваренного в «Сент-Бриджет», зажат в пальцах. Сердце выброшенного на берег Голиафа, великое скандинавское сердце остановилось. И, несмотря на все усилия Дигби, больше не будет биться.
Обычно с заходом солнца лепрозорий становится темным и тихим местом, но в тот вечер он сияет светом ламп, ворота широко распахнуты. Сборщик кокосов, Мудалали и остальные жители деревни, все, кто знал и любил великана-шведа, явились отдать долг уважения, хотя для этого им впервые пришлось пересечь границу лепрозория. Из многих поместий прибыли автомобили: Франц и Лена Майлин, Тэтчеры, Кариаппа, вся команда «Форбс», секретарь клуба, повар и два кедди-помощника — все они друзья Руни и ехали несколько часов, чтобы непременно быть рядом. Гости почтительно стоят за стенами крохотной часовни, пока рыдающая община заполняет изготовленные вручную скамьи, а один из ее членов ведет службу. Воздух в часовне благоухает свежесрубленным хлебным деревом, из которого на собственных станках они выпилили гроб.
Гроб Руни несет его паства, его ученики, впереди всех Шанкар и Бхава — пошатываясь и шаркая ногами, они ковыляют на костылях во главе нестройной процессии, которая сопровождает Руни на кладбище, устроенное на поляне прямо у передней стены. Руки, на которых не хватает пальцев, руки, скрюченные в когти, и руки, которые вовсе и не руки, а комки плоти, отпускают веревки, предавая земле смертные останки святого, который посвятил свою жизнь тому, чтобы облегчить их жизни. Плач общины разрывает небосвод и разбивает сердца прибывших из внешнего мира, которые впервые смогли за гротескными изуродованными лицами разглядеть и узнать самих себя.
В последующие дни обитатели лепрозория, еще не пришедшие в себя от горя утраты, обращаются к Дигби, как некогда обращались к Руни, а сам он находит опору у Шанкара и Бхавы. Дигби, при помощи Басу, который немного говорит по-английски, подбадривает людей, напоминая, что нужно делать все то, что они делали раньше, ухаживать за полем, за садом и за скотом. Вечерами в уединении бунгало Дигби дает выход своему горю. Руни был для него не просто хирургом, но спасителем, исповедником, человеком, который стал ему почти отцом.
Возможно, Руни предчувствовал свою смерть. Он наверняка знал, что у него стенокардия, потому что завещание составлено недавно. Значительную сумму с его сберегательного счета получает Шведская миссия, с указанием сохранить основную сумму, а проценты использовать для содержания лепрозория.
Дигби телеграммой сообщает индийской Шведской миссии о случившемся. Ответ приходит незамедлительно.
ГЛУБОЧАЙШИЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ ТОЧКА НЕ БЫЛО ЧЕЛОВЕКА ЛУЧШЕ ТОЧКА МЫ НЕ ОСТАВЛЯЕМ МОЛИТВ ТОЧКА ЖДИТЕ УКАЗАНИЙ ИЗ УППСАЛЫ
Он отправил письмо индийскому епископу в Трихинополи, который возглавляет миссию, приложив копию соответствующей части завещания Руни. И закончил следующим:
Я хирург Индийской медицинской службы, в настоящее время нахожусь в бессрочном отпуске по болезни в связи с травмой руки, не связанной с проказой. Доктор Орквист провел мне две операции. Я питал к нему глубочайшую любовь и привязанность, как и к здешним пациентам. Я делаю все возможное, чтобы поддерживать работу «Сент-Бриджет» и оказывать базовую медицинскую помощь. Если это соответствует вашим требованиям, я могу продолжить свою деятельность здесь. Однако мои руки никогда не будут способны проводить операции такого уровня, какие делал доктор Руни.