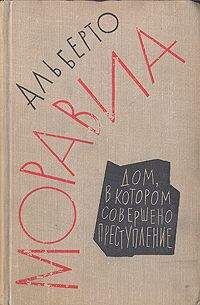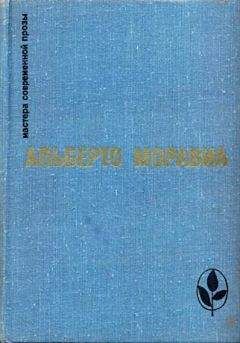Альберто Моравиа - Скука
— Думаю, да. Столько вещей делаешь с удовольствием, потому что знаешь, что это приятно другому.
— Другому? То есть все равно кому?
— Нет, я говорю «другому» в смысле Лучани или тебе.
— Понятно. А потом что было?
— Мы ели и пили, ведь в траттории положено есть и пить, разве нет?
— И что ты ела?
— Не помню. Я никогда не смотрю, что ем. Обычное что-то.
— А потом?
— Лучани подозвал оркестрантов, и они пели нам неаполитанские песни.
— Какие?
— Не помню.
— Ты любишь неаполитанские песни?
— В общем, да.
— Нет, любишь или не любишь?
— Ну, когда как. В траттории — да. Но если б они явились играть, когда я сплю, тогда нет.
— А потом что вы делали?
— Что делали? Да ничего.
— Бьюсь об заклад, что Лучани купил розу со стеблем, обернутым в фольгу, у одной из тех девушек, что разгуливают по ресторану.
— Правда, откуда ты знаешь?
— Я все знаю. Я знаю еще, что ты поднесла ее к носу, так?
— Но так делают всегда, когда получают в подарок цветок, разве нет?
— Тебе было приятно, что Лучани преподнес тебе розу?
—Да.
— А после ужина куда вы пошли?
— В кино.
— Как назывался фильм?
— Не помню.
— Кто играл?
— Не знаю. Я ведь не знаю имен актеров.
— Но что в нем по крайней мере происходило, в этом фильме?
— По-моему, это был американский фильм, знаешь, из тех, где всадники и много стрельбы.
— Вестерн. В кино вы держались за руки?
— Да.
— Целовались?
— Да.
— Занимались любовью?
— Да.
— Как, занимались любовью в кино?
— Мы сидели в задних рядах за колонной, а зал был почти пустой.
— И каким же образом вы устроились?
— Я села к нему на колени.
— И тебе было приятно?
— Нет, я ужасно боялась. И потом, мне не нравится делать такие вещи на людях.
— А зачем же ты тогда это делала?
— Потому что мне хотелось.
— Так, значит, тебе понравилось?
— Нет, мне хотелось, но не понравилось.
— А что вы делали потом?
— Пошли в ночной бар.
— Какой?
— Не помню, как он называется… Где-то за виа Венето.
— И как там было?
— Очень много народу.
— Я спрашиваю, какой был зал, как обставлен, как декорирован?
— Я не разглядывала.
— Вы танцевали?
— Да.
— Много?
— Да.
— Во время танцев ты к нему прижималась?
— Нет.
— Почему?
— Это был танец, где танцуют врозь.
— Что вы делали потом?
— Ничего. Около трех он проводил меня домой.
— У него есть машина?
— Была, но он ее продал.
— Стало быть, у него не так уж много денег?
— Да, он сейчас без работы.
— И ты иной раздаешь ему деньги?
— Да, иной раз даю.
— Мои деньги?
— Да, те, что даешь мне ты.
— То есть деньги, которые я тебе даю, ты никогда не тратишь на себя?
— Нет, иногда кое-что покупаю. Но по большей части трачу вместе с ним.
— А вчера кто платил — ты или он?
— За одно я, за другое он. За кино заплатил он, за остальное — я.
— То есть почти за все заплатила ты?
— Он много за что платил в прошлый раз.
— А как ты передала ему деньги?
— В траттории я передала их под столом. В баре он сам взял из сумочки.
— И потом проводил тебя домой на такси?
— Да.
— Он вошел с тобой во двор?
— Да.
— Вы вместе поднялись по лестнице?
— Да.
— И на лестнице занимались любовью?
— Да, немножко, у меня на площадке.
— Что значит немножко?
— Ну, не до конца.
— Тебе было приятно?
— Приятнее, чем в кино, потому что тут я меньше боялась.
— А потом?
— Потом мы расстались.
— Ты пошла спать?
— Да.
— И прежде чем заснуть, думала о нем?
— Нет, я думала о тебе.
— Обо мне?
— Да, о тебе. Я думала о тебе, пока не заснула.
— И что же ты думала?
— Не помню. Просто думала, и все.
В один из дней, словно бы для того, чтобы лишний раз укрепить во мне ощущение неуловимости Чечилии, произошло событие, о котором я хочу рассказать. Последнее время я часто, особенно когда знал, что Чечилия не придет, отправлялся в студию Балестриери, которая так и стояла нежилой с того дня, как старый художник умер. Вдова то ли не позаботилась о том, чтобы ее пересдать, то ли, что всего вероятнее, не сумела найти жильца. Я входил в студию, пользуясь ключом, который когда-то Балестриери дал Чечилии, а я у нее отнял, и бродил там среди мебели, с которой уже давно никто не стирал пыль, вдыхая запах старых грязных вещей. Я как будто искал сам не знаю что. Слоняясь по этой мрачной комнате, в которой чернела мебель и багровели ткани, видевшие любовь Чечилии и Балестриери, я испытывал какое-то странное тяжелое чувство: словно то не Балестриери была студия, а моя, и не он, а я умер, и теперь как привидение — у привидений это принято — явился на место своей любви. Это тяжелое чувство рождалось не только из ясного ощущения того, что в моих отношениях с Чечилией было какое-то омерзительное сходство с отношениями ее и Балестриери, но также из убеждения, что в каком-то смысле я тоже мертв, и даже более окончательно, чем старый художник, который по крайней мере не сомневался в собственном искусстве и рисовал, можно сказать, до последнего вздоха. Я же, думал я, разглядывая голую, в нарочитых позах Чечилию на огромных полотнах, облепивших стены от пола до потолка, я же умер для живописи еще до встречи с Чечилией, и если сейчас мне привелось бы, подобно Балестриери, умереть по ее вине, я всего-навсего повторил бы в жизни то, что уже пережил в искусстве. Иными словами, я продолжал чувствовать, что существует определенная связь между моим крахом как художника и моими отношениями с Чечилией, между моей неспособностью оживить натянутый на подрамнике пустой холст и невозможностью по-настоящему овладеть лежащей среди диванных подушек Чечилией; та же самая связь, несомненно, была между отвратительными картинами Балестриери и его специфическими взаимоотношениями с Чечилией. То была связь темная и угрожающая: так путнику, заблудившемуся в пустыне, предстают вдруг во всей своей многозначительности разбросанные по песку белые кости.
Однажды, когда я был погружен в изучение непристойных ню Балестриери, разглядывая их как таинственные письмена незнакомого языка, дверь, которую я оставил незапертой, приоткрылась, и в проеме показалось женское лицо. Удостоверившись, что я тут, женщина вошла и направилась ко мне. Я почти сразу ее узнал: то была вдова Балестриери; на похоронах ее лицо было почти полностью скрыто густой темной вуалью, из тех, что приняты в деревенских похоронных процессиях, но потом у меня было несколько случаев ее увидеть. Это была высокая, крупная женщина, когда-то, по-видимому, очень красивая, так что даже сейчас, в пятьдесят лет, ее деформированная плоть сохраняла, правда слегка потускневшие, краски времени ее молодости: сияла белизной кожа, ярко блестели черные, немного навыкате глаза, тугие красные губы горели на лице, как спелые вишни. В молодости она служила Балестриери натурщицей и была, по-видимому, единственной до Чечилии женщиной, которую Балестриери любил или думал, что любил: в самом деле, ведь он женился на ней и прожил с нею двадцать лет. Родом из деревушки в Лацио, знаменитой тем, что она традиционно поставляла натурщиц римским художникам, вдова Балестриери до сих пор сохраняла в своем облике и повадках какую-то деревенскую простоватость.