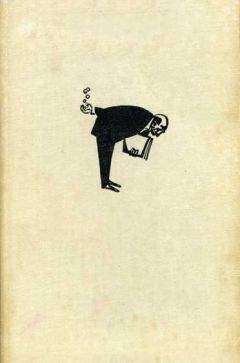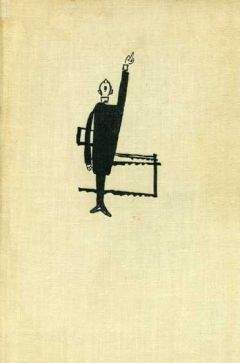Арнольд Цвейг - Радуга
— У тебя много работы, То? Не правда ли?
Малютка на мгновение поднимает глаза. Окидывает взглядом знакомого постояльца и, серьезно кивнув ему, продолжает писать. Ее длинные темные ресницы под тонкими бровями то открывают ясный глаз, то снова прикрывают его; так мотылек поднимает и опускает крылышки.
— Даже наверху, в номерах, тебе приходится писать, если там есть ручки? Жалко, что они иногда падают на пол. Но что тут поделаешь?
В этот момент лифт спускается и заявляет о себе тихим, глухим стуком. Дон Сервато поворачивается к кабине. Щечки То порозовели, даже ее склоненный лоб покраснел, однако она не отвечает. Она только сильнее нажимает указательным пальчиком на ручку, и взгляд ее с еще большим вниманием следит за рядами выводимых ею каракуль.
— Жалко, То, что ручка испортилась. Как же сделать, чтобы папа не рассердился, а мама не огорчилась?
И он еще раз кивает, отворяет дверь лифта, потом захлопывает ее и поднимается с помощью знакомой игры магических кнопок на третий этаж, где находится его комната с широкой кроватью и длинным окном. Аккуратно повесив пальто, кашне и берет, он набивает свою трубку и садится поработать перед сном.
Пока он сидит над бумагой, стараясь сосредоточиться, у него перед глазами в мелькании штрихов и букв возникает личико То, красивая линия щек, маленький заостренный подбородок, прелестный ротик, который когда-нибудь станет девичьим ртом и будет властен дарить людям счастье или делать их несчастными. Но тут дон Сервато усаживается поудобней, вынимает заметки, которые он сделал утром, работая в историческом архиве, и стенографирует карандашом набросок исследования, или, вернее, удостоверения, которое заказала ему одна итальянская семья. Безумные претензии немцев, которым итальянцы при Муссолини подражают так же рабски, как прежде варвары подражали итальянцам, заставляют знатные семьи из Ливорно искать доказательств, что их предки до середины восемнадцатого столетия были католиками, а не евреями, как будто есть смысл заниматься подобным вздором. Важна сущность человека, его характер, его деятельность на благо общества. Нет ничего более бессмысленного в современной Европе, где перемешались все нации, чем дурацкая мания подчеркивать преимущества или недостатки расы.
На следующее утро дон Сервато сходит вниз в тот момент, когда мсье Грио получает у почтальона заказные письма для своих клиентов. Здесь может оказаться почта и для Сервато, а для ученого-эмигранта ценное письмо или чек — приятнейшее утреннее приветствие, поэтому он решает дождаться конца церемонии, сидя, в плетеном соломенном кресле, и пока что просмотреть газету, одну из тех гибких, законопослушных газет, которые осторожные хозяева гостиниц выписывают для своих жильцов: ведь крайние органы печати у иных читателей могут вызвать протест.
На плетеном диванчике, который с двумя плетеными креслами придвинут к столу и составляет вместе с ними всю обстановку вестибюля, уже сидят, широко раскрыв глаза, несколько кукол, целое общество. Кукла-папа, в цилиндре, весь в черном, устроился в углу, охраняя русокудрую даму, прислоненную к ручке дивана. Странное общество, подумал Сервато, которому не терпелось почитать о новейших признаках распада Европы. Бессловесные создания, таращась, как рыбы в аквариуме, подражают нам, впрочем безобиднейшим образом, гордятся румяными щеками и правильными чертами лица, как будто они сделаны на заказ тем господином, который уже пятнадцать лет терзает мою родину и которого за его приторно-сладкую улыбку, короткие ноги и толщину я называю энгадинским кондитером. Куклы, думает Сервато. Что такое люди для этих диктаторов, если не куклы? Разница только в том, что мы, существа из плоти и крови, обладаем голосом; впрочем, большинство европейцев научилось и голосом пользоваться по-кукольному. Не лучше ли было бы по нынешним временам, если бы нас набили опилками и заменили нам нервы швами? Как бы то ни было, моя подружка То уже играла здесь, а вот и она сама выходит из маленькой приемной, где стоит красивая, обитая желтым бархатом мебель, толкая перед собой кукольную коляску. Какое у нее серьезное личико! И кого же она везет на прогулку, раз «папа» и «мама» уже расположились здесь на плетеном диване?
То, одетая, чтобы идти в детский сад — на ней пальтишко и шапочка, — бросает дону Сервато дружелюбный взгляд и робкое «здравствуйте». И тут же обращается к двум сидящим в ожидании «родителям» и приглашает их погулять вместе с ней. В коляске сидит еще одна кукла, самая большая, в плиссированной юбке и в капюшоне — это «ребенок». То говорит на разные голоса — за каждого из членов своего «семейства» — и не обращает внимания на дона Сервато. Ученый прислушивается. Он отмечает, что То впервые разрешила ему слушать ее беседу. Раньше, играя в вестибюле и наталкиваясь на гостя, она немедленно скрывалась в своих комнатах — боялась помешать. Дон Сервато достаточно давно живет в гостинице и хорошо знает все обычаи хозяев. Мсье и мадам, пожалуй, больше чем другие французы, стремятся провести грань между своей частной жизнью и профессиональной деятельностью. Никакой фамильярности! Никому не известно, приятна ли То жильцу, и, кроме того, сдавая номер, ведь не сдаешь внаем свою душу. То, маленькая Антуанетта, хорошо усвоила привычки родителей. Если сегодня, увидев, что дон Сервато уселся за столиком, То не уходит играть в задние комнаты, значит, она хочет этим что-то выразить. Не дает ли она ему понять, что благодаря несчастному случаю с авторучкой он стал ее близким другом и это обязывает его молчать? Не приобщает ли она его к своим милым выдумкам, стараясь смягчить его, обеспечить сохранение тайны? Быть может, она думает: «Вот наше семейство. Вы сидите с нами, как друг нашего дома. У папы и мамы. Пожалуйста, оцените эту милость правильно, не выдавайте нашей тайны». Она продолжает вести разговор за кукол, погрузив их всех троих в колясочку. И дон Сервато с удивлением слышит, как с ее милых губ слетают слова, произнесенные щебечущим голоском, но прежде никогда не срывавшиеся с детских уст.
— Мсье, надо выкупить вексель, мадам уже выписала чеки. Вот они.
То поднимает розовую ручку куклы с зажатой в пальцах запиской, одной из тех, над которыми девочка так усердно работала.
— Но если разразится война, если бомба попадет в соседний дом, после того как мы сполна за него заплатили?
Двигая головой и туловищем, кукла, выступающая в роли мамы, дает понять, что это она, объятая материнской тревогой, вложила в уста То такие зловещие предостережения.
— Значит, мы все будем разорены, — говорит мсье, — и ребенку придется переселиться к бабушке. Она и в порту Сент-Андре может вырасти здоровой.
Тем временем настоящий, взрослый мсье кончил разговор с почтальоном, он подходит к ним, держа письмо, покрытое сургучными печатями, и какие-то пакеты — дон Сервато видит, что это заказная бандероль, вероятно, корректура его статьи о семействе Борджиа для газеты «Геральдика». Мсье выражает надежду, что То не докучает дону Сервато своей болтовней, и благодарно улыбается: горячий протест жильца звучит очень искренне. Затем он берет То за руку, и девочка исчезает на улице, за большой, бесшумно закрывающейся дверью. Предварительно Грио напоминает девчурке, что надо проститься с доном Сервато.
Дон Сервато остается, ему хочется посидеть здесь. Он вынимает из кармана серую пачку табаку и трубку, набивает ее, зажигает и, выпуская клубы дыма, раздумывает о том, что он только что слышал. Скоро он выйдет погулять и купит почтовые марки, потом будет читать свои корректуры, а ценное письмо распечатает сейчас же. Но все это не к спеху, гораздо важнее для него то, что он заглянул в чувства, заботы, дела хозяев, о которых он никогда не задумывался. Вот оно, наше время, прославленное двадцатое столетие, в котором кондитеры и австрийские шоферы взмывают на гребне волны, становятся во главе больших народов и, как истые дилетанты в сфере политики, непрестанно бряцают оружием, этим ultima ratio regum, последним аргументом власти. Мсье Грио, худой, молчаливый человек, и молодая бледная мадам с короной волос принимают решения и выполняют их, стараются увеличить свои сбережения — результат неустанного труда, правильно поместить их, а ребенок, помимо их воли, все примечает. Так растут дети в наше время. Но и в простые коммерческие операции врывается военная опасность как вечная угроза, как зловещая туча, нависшая над всеми. Так в умах людей возникают гораздо более важные заботы, чем вопрос о том, кто заплатит за починку авторучки, упавшей на пол из рук ребенка. Эмигранту-ученому и вправду трудно удерживать свой бюджет в равновесии; да и кому охота нести убытки, в которых он неповинен. Но ведь дружеская и бережная забота хозяев о своих жильцах — неоценимое благо и, уж во всяком случае, стоит того, чтобы примириться с единовременным расходом. Дон Сервато не женат, у него нет детей. Он был рожден для монашеской жизни, если бы только мог поверить во всемогущего и всеблагого бога и подчиниться дисциплине монашеского ордена. Одно из двух — либо всемогущего, либо всеблагого, думает он, вытряхивая остатки табака из карманов брюк.