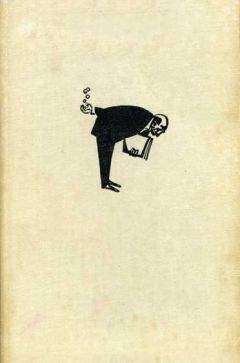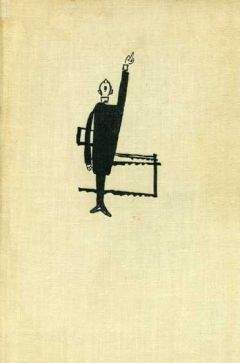Арнольд Цвейг - Радуга
Наступила пора, когда дни становятся короче и сумрачней. Даже Париж не может смягчить ощущения, что жизнь уходит. Вот и моя жизнь уходит, скованная, бесцельная, думает изгнанник, нахлобучивая на лоб черный берет и засовывая руки в карманы. Вокруг него течет то темный, то пестрый поток людей, наводняющий в октябре к пяти часам широкие Елисейские поля. Вереницы автомобилей, словно спущенные с цепи собаки, устремляются к Триумфальной арке, как только ажан освобождает им путь; на другой стороне улицы такая же вереница рвется к площади Согласия. Небо, высокое и бесцветное, тянется над ущельями улиц. Как здесь жить? Серый свет никого не радует. Зато витрины сияют и сверкают; они бросают на прохожих огромные снопы света, на мгновение выхватывают из сумрака многокрасочные пятна — группы людей — и обводят светлой рамкой спины тех, кто стоит, точно приклеенный к самому стеклу. Но какой смысл эмигранту, которому приходится учитывать каждый грош в ожидании, пока на родине рушится ненавистный и подлый режим, вожделеть к сверкающим и соблазнительным изделиям французской столицы?
Изгнаннику, одному из множества не знающих покоя людей — во время европейской войны они бежали под сень Эйфелевой башни, спасаясь от политических репрессий и распада общества, к которому некогда принадлежали, — бездомному изгнаннику было лет сорок пять, а может быть, и меньше. Его худое лицо, выразительно сжатый рот, дугообразные брови, длинный и острый нос изобличали в нем южанина и человека умственного труда.
У дона Пабло Сервато не было ничего общего с политикой, хотя он по призванию и страстному влечению занимался историей. Родом он был из Сицилии, из Палермо, его испанские предки уже давно приобрели там права гражданства и неведомыми нам путями повлияли на его склонности, а стало быть, и призвание: он стал студентом исторического факультета, затем обратился к хроникам и подвигам знатных родов, определивших развитие Южной Италии, и скорее случайно, чем намеренно, благодаря подвернувшимся заказам, стал составителем родословных; этим он и зарабатывает на жизнь. Ибо весьма многие чувствуют непреодолимую потребность проследить, в какие подпочвенные слои уходит своими корнями их существование, чтобы, узнав свое происхождение, выделиться из безымянной массы; тем, кто исследует их родословную, они охотно платят скромный гонорар. Дон Пабло, разумеется, мог бы заниматься этим в Неаполе или в Риме, где он пытался осесть в первые годы после войны. Но ему не нравились происшедшие там перемены. Он спокойно перенес бы несправедливость и даже жестокость, при помощи которой прокладывают себе иногда путь новые режимы, ибо человек, который любит историю античности и средневековья так, как любит ее дон Пабло, кто так хорошо освоился с XVII и XVIII веками и свыше двух лет выносил ужасы войны, не имеет права, по его искреннему мнению, порицать новую власть за то, что она прибегает к насилию, закладывая новый фундамент жизни. Но он не мог вынести притязаний государства на душу и тело человека, не мог вынести тирании, поддерживаемой марширующими по улице лоботрясами. Он отказался представлять свои мысли на одобрение деревенского старосты, а три пятых новых властителей, по его мнению, стояли ничуть не выше этого уровня. Человеку нужна свобода, пусть в скромных рамках, но подлинная, думал дон Сервато, и уж, во всяком случае, он должен быть свободен у себя дома, в своих четырех стенах; малых и больших тиранов девятнадцатого столетия погубили их же оголтелые репрессии и шпионство. Поэтому дон Пабло без долгих сборов и шума переселился в Париж, в тот город, где были провозглашены права человека. Сначала он собирался податься в Германию, в Мюнхен, где учился еще до войны. Но известия о путчах и расстрелах, приходившие из этой страны, не предвещали ничего доброго. Он искал устойчивой обстановки, хотел спокойно работать в библиотеках и музеях. Поэтому он выбрал Париж и не пожалел об этом.
Париж, этот гигантски разросшийся город свободы, пленил его не столько своим настоящим, сколько историей, атмосферой десяти столетий борьбы, отраженной в церквах, дворцах, площадях, где названия улиц, памятные перекрестки дорог, гигантские деревья, укромные уголки — все дышит историей. Эти места он лучше всего знал и любил. Чтобы не ослабить своего чувства привычкой, а быть может, из капризного противоречия и тяги к удобствам, он жил как раз в самой современной части города. Каждого первого числа он решал, что нужно наконец, хотя бы по материальным соображениям, перебраться на левый берег, и снова оставался в своем маленьком отеле, где его так добросовестно обслуживали, в отеле, который так спокойно расположился недалеко от площади Звезды, в одном из тех переулков близ Елисейских полей, куда надо взбираться, точно на вымощенный холм.
Дон Пабло достиг того места улицы, где можно пересечь ее, пройдя через туннель. Правда, он привык шагать между «островками спасения»; поток автомобилей отлично регулируется, и улицу можно пересечь, точно ручей, посередине которого положены камни. Но, углубившись в свои мысли, дон Пабло предпочитает идти спокойно, не обращая внимания на окружающее, и ноги словно сами несут его к дверям туннеля. Дон Сервато спускается вниз, вдыхает особый «местный» воздух, напоминающий прачечную, развязывает свое темно-синее кашне, потом завязывает его плотнее. Через минуту он выныривает на другом конце извилистого коридора, подобно Орфею, вынужденному с сожалением покинуть свою Эвридику. Как раз сегодня у него созрели важные мысли — хоть сейчас садись и пиши — об экономических причинах переселения норманнов из Скандинавии, а затем из Нормандии, о падении дохода от отечественных пастбищ, полей и рек. Ему хочется скорее записать эти мысли; Наверху, в тесном номере гостиницы, до которого он быстро доберется на лифте, лежит на стопке бумаги его авторучка, и он заранее радуется минуте, когда окунется в свет маленькой лампы, падающий сверху и вырывающий из мрака комнаты письменный столик, подобный камню в сумрачном храме, на который возлагается жертва.
Приветливо поклонившись и бросив беглый взгляд на свой пустой почтовый ящик, он идет мимо мадам Терез, которая сидит по ту сторону низенькой загородки, вернее — деревянного барьера, над большой конторской книгой и делит свое внимание между записями в книге и сигналами коммутатора, которые вспыхивают и гаснут, когда звонят из номера или конторы. Мадам Терез склоняет бледное красивое лицо, приветствуя гостя, вполголоса объясняется со своей дочуркой То, играющей у барьера, и немедленно исчезает из мыслей дона Пабло, как только он один, без портье, начинает подниматься на лифте. Гостиница — около тридцати номеров — обходится всего четырьмя служащими. Мадам Терез ведет всю бухгалтерию, ее супруг, мсье Грио, осуществляет верховное руководство, ведая решительно всем. Он отличается точностью, сдержанностью и вежливостью.
В этой гостинице — обычно говорит дон Пабло своим знакомым — нет боев, наряженных в ливреи и болтающихся без дела. Вместо холла здесь небольшой вестибюль и рядом — единственная приемная, к тому же довольно мрачная. Зато здесь помнят о каждом телефонном звонко и, возвращаясь, дон Пабло неизменно находит в своем ящике записку с именами всех, кто его вызывал. Понимаете, что это значит?
Друзья доп Пабло понимают это до ужаса ясно. У парижских отелей много приятных свойств, но передавать жильцу, кто звонил, кто приходил, не в их привычках, и от этого особенно страдают литераторы — до диких вспышек гнева, до заболевания меланхолией.
Войдя в свой номер на третьем этаже, включив свет и усевшись за письменный стол, дон Пабло берется за авторучку и обнаруживает, что с ней что-то случилось. Она сломана: ее перо, это бледное золотое острие, с которого стекают мысли, наполовину согнуто и искривлено, как раненый палец, а другая половина, словно жало, вонзается в бумагу. И дон Пабло чуть не посадил кляксу на том самом листке, на котором предполагал изложить стройный ряд мыслей, объяснить, по каким климатическим причинам в восьмом столетии у берегов Дании и Норвегии так уменьшился улов рыбы, что молодых скандинавов голод на родине пугал больше, чем опасное переселение во Францию.
Еще не сняв пальто, берета и кашне, историк смотрит удивленными глазами на маленькое любимое «орудие производства», которое кто-то испортил. Мысли его рассыпались, словно стая испуганных воробьев. Кто был в его комнате, кому понадобилось здесь писать? Кто бросил ручку на пол, отчего она вонзилась острием в ковер? Быть может, кто-то и прежде тайком писал его ручкой? Быть может, гостиница уже не та? Быть может, это следствие происков, направленных против эмигрантов? Надо ли известить мсье Грио, потребовать возмещения убытков, выселить виновника?
Но прежде всего, друг мой, овладей собой, своим волнением. Забудь о случившемся, приведи в порядок свои чувства, возьмись за работу. В случае нужды можно и карандашом записать важные для тебя мысли. Соблюдать душевное равновесие — вопрос гордости для интеллигентного человека; он умеет сам справляться со своими затруднениями в отличие от обывателя, который немедленно бросается за помощью к полиции. Раздевайся, забудь — я так хочу — об этом эпизоде, пока не придет пора заняться им. Пусть эта ручка, последний дар друзей, которых ты вынужден был покинуть в Риме, приросла к твоему сердцу; пусть расход на ремонт поколеблет твой строго ограниченный и чувствительный бюджет, — теперь ты должен думать о косяках сельди, о времени метания икры, о морских течениях, о команде весельных судов, отличающихся высоко поднятым носом — грубо сделанной головой змеи со злыми глазами и двойным рядом оскаленных зубов, викинги называли ее морским драконом.