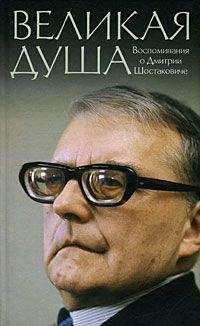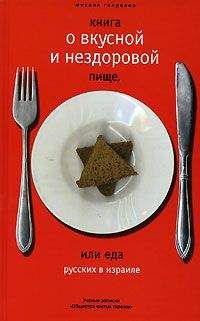Журнал «Новый мир» - Новый мир. № 8, 2002
Невольно вспоминается «нощелюбивая» и «смертелюбивая» лирика «полузабытого, но гениального», по выражению Ю. Лотмана, поэта Семена Боброва, у которого «гроб стал и единицей измерения человеческой жизни, и своеобразным квантом исторического процесса».
О ночь! — лишь погрузишь в пучину мрака твердь,
Трепещет грудь моя; в тебе мечтаю смерть;
Там зрю узлы червей, где кудри завивались;
Там зрю в ланитах желчь, где розы усмехались.
Одр спящего и гроб бездушный — все одно;
Сон зрится смертию, смерть сном, и все равно.
Открою, где чертог премудрость зиждет свой;
На мшистых сих гробах, где мир небесный веет!
Ступай! — учись! — гроза прошла, — луна багреет…
Нетрудно заметить, вероятно, невольную преемственность некоторых образов, при всей стилистической, через полтора века, разнице: лиричность Смоленского — ценой отказа от былого эпического космизма («томительный и жалкий звездный свет / Не нужен в темноте существованья»). Смоленский ждет от смерти какого-то последнего земного знания и даже красоты, вопреки трактовке французского философа русского происхождения Владимира Янкелевича, утверждающего «абсолютную апоэтичность» смерти: «Смертью просто-напросто оканчивается существование эмпирической промежуточности. Можно ли такой кризис почувствовать на „собственной шкуре“, можно ли его испытать? Нам приходится умирать, но самой смерти мы не испытываем; самость смерти, последнее пограничное событие, является объектом нового и внезапно обрывающегося опыта». Смоленский выражает не истину сомнения, как С. Бобров, и не истину рассудка, как В. Янкелевич, а истину ясной, в парадоксальности, своей веры.
Когда поймешь, что все на свете ложь, —
Лишь смертная правдива в муке дрожь, —
Что мертвый лик воистину красив,
Что только мертвый рот красноречив,
Тогда ты замолчишь и будешь ждать,
Чтоб смерть сняла с молчащих губ печать.
Но на новой ступени «спокойного, как торжество», отчаяния «даже смерти не ждать — даже чуда». Сердце каменеет, и «последним местом земным», «чтобы сердце согреть ледяное», оказывается уже хорошо прописанная в поэзии (начиная с того же С. Боброва) кабацкая стойка.
А вот эти строки вполне можно назвать парадоксальным апофатическим эмигрантским заветом:
Здесь Бога нет, Он где-то там,
Он где-то — иль нигде — над нами,
Не поднимайте ж к небесам
Глаза, сожженные слезами.
Примите тлен и нищету
Земли и, вместе с ней сгорая,
Все разлюбив, все понимая,
Клонитесь молча в темноту.
Впрочем, сам поэт, как отмечено выше, обладал опытом ощущения на себе всевидящего и умудряющего Божьего ока. Если в стихотворении «Святой Франциск Ассизский» Смоленский переводит в стихи традиционный богословский опыт: «Надо, чтоб в вере сгорело ненужное знанье», — то в «Ангеле Смерти» (с которым поэт не раз общается в своих стихотворениях) автор в своем обращении к посланнику свыше сам надеется поэтически богословствовать: «Но оставь мне малый срок, мне надо / Богу дописать стихотворенье».
Четверостишье, давшее название книге:
О гибели страны единственной,
О гибели ее души,
О сверхлюбимой, сверхъединственной
В свой час предсмертный напиши.
Сам он — написал, оставив это открывающее выход в иные миры чувство «сверхъединственности». В книгу также входят фрагменты «Воспоминаний» и «Мысли о Владиславе Ходасевиче», «проницательном реалисте».
Александр ЛЮСЫЙ.«Однажды Барков зашел к Сумарокову…»
Г. А. Гуковский. Ранние работы по истории русской поэзии ХVIII века. Общая редакция и вступительная статья В. М. Живова. М., 2001, «Языки русской культуры», 367 стр
В год смерти Пушкина появился первый «Очерк русской словесности XVIII столетия». Его автор Николай Стрекалов меланхолично замечал: «Отечественная словесность XVIII века представляет довольно безотрадное зрелище». Прошло почти столетие, прежде чем за этим «безотрадным зрелищем», за «унылой пустыней классицизма» открылась яркая картина литературной жизни. Ее первооткрывателем явился Григорий Александрович Гуковский. «У Гуковского в ранней молодости (мы тогда с ним как раз познакомились) был особый комплекс противостояния… Эта наивная, задиристая позиция принесла, как ни странно, отличные плоды — открытие русской литературы XVIII века», — писала Л. Я. Гинзбург. Дело в том, что предшественники Гуковского (П. П. Пекарский, М. И. Сухомлинов, М. Н. Лонгинов…), сделавшие очень много для изучения XVIII века, воспринимали эту эпоху как время господства «серого ложноклассицизма», как «предпушкинскую неведомую и темную эру». И в этом смысле Гуковский действительно совершил открытие, показав вместо «ожидаемого серого однообразия» «оживленную картину литературных направлений» и яркую художественную жизнь.
«Мало кто интересуется поэзией XVIII века; никто не читает поэтов этой отдаленной эпохи». Эти слова, открывающие вышедшую в 1927 году книгу Гуковского «Русская поэзия XVIII века», за редкими исключениями можно отнести и к нашему времени — к моменту нового издания ранних работ ученого. В частности, и поэтому переиздание работ Гуковского ожидалось достаточно давно. И вот, вслед за вышедшим в 1999 году переизданием учебника Гуковского «Русская литература XVIII века», последовали «Ранние работы по истории русской поэзии XVIII века». Этот том включает в себя исследования молодого ученого, печатавшиеся с 1926 по 1929 год.
Впрочем, подход к литературному процессу и круг научных интересов Гуковского определились уже в самом начале 20-х годов — ко времени окончания университета. И это, пожалуй, не случайно: Григорий Гуковский, которому было в ту пору чуть больше двадцати лет (он родился в 1902 году), именно в это время начинает читать лекции по русской литературе XVIII века, а по воспоминаниям Л. Я. Гинзбург, «Гриша говорит, что… лучшие мысли возникают у него в процессе говорения (особенного, лекторского)».
Что же заставляет ждать переизданий работ двадцатилетнего ученого, написанных около восьмидесяти лет назад, и есть ли вообще смысл переиздавать эти работы? Смысл есть, и более того, «Ранние работы…» — одна из важнейших нынешних републикаций филологических трудов 20-х годов.
Рецензируемый том представляет собой своего рода «собрание сочинений» молодого Гуковского. Кроме книги «Русская поэзия XVIII века» в том включены статьи, печатавшиеся в сборнике «Поэтика», и две статьи на французском языке, вышедшие впервые в «Revue des Etudes slaves». «Конечно, ряд существенных моментов истории поэзии XVIII века остался не отраженным в книге. Можно надеяться, что благосклонный читатель не посетует на меня за это, памятуя, что условия работы всякого исследователя XVIII века сильно напоминают условия деятельности путешественников ХVI или ХVII веков», — пишет Гуковский в книге «Русская поэзия XVIII века». Сама эта книга представляет собой ряд очерков, на первый взгляд не объединенных единой концепцией. Однако все не так просто. В первом очерке — «Ломоносов, Сумароков, школа Сумарокова» — рассказывается «о двух поэтических системах, о направлениях, жизнь и борьба которых составила главным образом содержание 40-х, 50-х годов и даже более позднего времени». Грубо говоря, в этих словах и заключается тот взгляд на развитие русской словесности XVIII века, который предлагает Гуковский, и две эти поэтические системы — разумеется, системы Ломоносова и Сумарокова. «Комплекс противостояния» ученого проявляется и здесь. В первом же очерке (или главе) своей книги Гуковский прямо ставит больной вопрос о подражательности русской литературы XVIII века. Не отрицая фактов заимствования и даже приводя многочисленные их примеры, Гуковский отвергает мнение о «простом подражании французским образцам» и объясняет все иначе — «не слепок, не бездушный лик», не «ложноклассицизм» (как полагал, например, Н. Н. Булич), а ситуация ученичества. И далее, основываясь на работах своих предшественников (в частности, В. Сиповского), посвященных связям литературы XVIII века с древнерусской традицией, разворачивает их наблюдения и делает вывод, достаточно неожиданный для 20-х годов: «…разнообразные воздействия, скрещиваясь, создавали нечто своеобразное, нечто оригинально-русское; ибо они попадали в сферу действия старых русских традиций, переданных современникам Тредиаковского или Ломоносова еще XVII веком и Петровской эпохой».
Примечательно, что несколькими годами позже, в совсем уже другое время и в другую научную пору своей жизни, Гуковскому тоже пришлось «оправдывать» литературу XVIII века. Так, в 30-е годы Гуковский совместно с В. А. Десницким выступил против взгляда на русскую литературу XVIII века как на «мало интересную», на классово чуждую, а потому не требующую изучения, как на литературу, расположенную «в одном из отдаленных закоулков». Но в первой главе книги «Русская поэзия XVIII века» это «оправдание» имело совсем иной характер — Гуковский не защищался, а нападал.