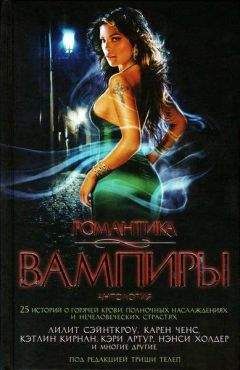РИЧАРД ФЛАНАГАН - КНИГА РЫБ ГОУЛДА
Но мы не были первыми, кто решил направиться к Фрэнчменз-Кэпу. Так, раз нам попалось кострище, у которого там и сям валялись берцовые кости и кости предплечий. Невдалеке заметили мы и скелет безымянного беглеца, закованный в кандалы и оплетённый корнями мирта.
Мы стояли молча, словно прислушиваясь, сами не зная к чему.
— Что ты собираешься делать? — спросил Капуа Смерть, почёсывая большой, прискорбного вида струп, который образовался там, где на предплечье была некогда выжжена калёным железом улыбающаяся маска.
Мы поковыляли дальше. Солонина была вся съедена. Книги отсырели, обросли мхом и лишайниками, в них завелись насекомые и ещё какая-то живность. Струп на предплечье у моего спутника загноился, его движения замедлились, мозгом овладела горячка. Чай закончился. Каким-то образом мы умудрились потерять топор, хотя я подозревал, что Капуа Смерть нарочно его выбросил, во избежание соблазна употребить его так, как это сделал пирожник. Мука тоже вся вышла. В глубокой речной долине мы набрели на побелевший остов голубого эвкалипта такой толщины, что лишь с десяток мужчин смогли бы его обхватить. К нему гвоздями было прибито в ряд нечто, издали казавшееся кусочками коры. Капуа Смерть, бредивший на ходу, решил, что это уставились на него невероятно размножившиеся глаза луддита из Глазго, взывая к отмщению, и побоялся подойти. Но то было нечто совсем другое: при ближайшем рассмотрении обрывки коры оказались дюжиной пар засохших чёрных ушей.
Позднее, прихрамывая, мы спустились с высокого холма, где к поверхности подступали скалистые породы, и шагнули на обширную равнину, уже зелёную от травы; здесь попадались рытвины — в одну я провалился по грудь, — медно-рыжие от каких-то мелких цветочков и свежей поросли. Мы заметили, что среди них что-то мелькает, двигаясь по направлению к нам, и через некоторое время стало ясно: в нашу сторону идут двое туземцев.
Они не испугались, когда мы прибегли к старому трюку, подняв с земли по палке и вскинув их к плечу наподобие мушкетов. Бежать не имело смысла, мы даже понадеялись, что дикари отнесутся к нам дружелюбно и угостят мясом кенгуру, тушу которого нёс на плече один из них.
Но когда туземцы подошли ближе, стало ясно, что у них и в мыслях нет делиться добычей. Один был рослый, но какой-то замухрышка. Другой не такой высокий, зато ладно скроенный. И оба всем видом показывали, что настроены воинственно. И тут мы наконец заметили копья, волочащиеся по земле, — эти бродяги тащили оружие, зажав конец древка пальцами ног.
— Нумминер? Нумминер? — заверещали они, и я, белый тупица, предположив, что под «нумми-нером» они разумеют белого человека, повинного во всех бедах чёрного народа, заявил:
— Нет, я не нумминер.
Капуа же Смерть, чернокожий умница, подумал, что они толкуют про духов или призраков, а значит, можно обмануть этих простаков, изобразив ожившее пугало; он выпрямился, расправил плечи и постарался унять бившую его яростную дрожь, чтобы туземцы не узнали, до какой степени он болен и слаб.
И как можно громче, из последних сил он произнёс:
— Да, я — нумминер, я — чертовски большой нумминер!
IV
Последний свой вздох перед достойной сожаления кончиной Капуа Смерть явно испустил по поводу того, что вся его печальная история разыгралась теперь в обратном порядке. Все страдания моего приятеля на Сара-Айленде, ломатель машин, Хрущ, беззаботные времена в Хобарте, где он содержал кабак, жизнь в Ливерпуле, похоже, прокручивались перед его мысленным взором в обратном направлении, словно струйка, втягивающаяся назад в горлышко его глиняного кувшинчика.
Он поднял голову и увидел себя на борту невольничьего судна, где стал рабом, после того как белый человек надругался над ним самым унизительным образом, и опять — с отчаяньем, всё более безысходным, заметил, как в нём стремительно убывает любовь к свободе, когда на era глазах солдаты Французской республики вытаскивали гвозди из деревянных эполет, казалось бы намертво прибитых к плечам чёрного генерала Морепа.
Морепа смотрел на этих весельчаков, его била дрожь и в глазах сквозило глубокое непонимание, когда его жена и дети вернулись с моря; когда собаки стали блевать, изрыгая куски человечьего мяса, которые, срастаясь, принимали обличье людей; когда утопленное в крови восстание негров потекло вспять к недолгому торжеству свободы, а затем, теперь уже окончательно, к вечному рабству.
Капуа Смерть ощутил, как его неутолимая ярость и решимость сбросить невольничьи цепи угасают, словно умирающий огонёк свечи, и, когда он потерял силу взрослого мужчины и тело его стало телом слабеющего мальчугана, просто согласился войти в мир непрерывного труда, в край бесконечного насилия и беспричинной жестокости, уготованный для него хозяевами и сотоварищами, и принял оный, как нечто сущее испокон веков. И только вкус плода гуаявы, выхваченного из его рта и возвратившегося обратно на ветку, напомнил о том долгом времени, которое подошло к концу, когда приплывший издалека негр поволок за собой плачущую негритянку.
Незнакомая белая женщина умоляла, чтобы Капуа Смерть, тогда ещё младенец, был возвращён рыдающей и кричащей негритянке, чьи вопли быстро утихли; и, прижав ненадолго к груди ещё мокрого и запачканного кровью ребёнка, она встала со скамьи и заковыляла по пыльному двору, над которым склонялись ветки гуаявы; и вследствие этого Капуа Смерть наконец возвратился в те времена безмятежности, о коих он и не ведал, войдя вперёд ножками, словно в пещеру, в безбрежное материнское лоно через её разорванную и кровоточащую плоть.
Но в самый последний миг, перед тем как тьме суждено было поглотить его навеки, Капуа Смерть обернулся и увидел самого себя в зеркале убывающего содержимого глиняного кувшинчика, и с того самого мига колесо времени прекратило вращаться вспять и принялось стремительно крутиться вперёд, но будущее оставило Капуа равнодушным, и его более не интересовали ни собственная открывшаяся ему судьба, ни я, скинувший упряжь из кожи кенгуру, в надежде поскорее удрать от дикарей, ни два копья, пронзившие насквозь его измученную лихорадкой грудь.
Капуа Смерть отвернулся, глубоко вздохнул и, распрямившись, пошёл прочь, однако сумел сделать всего три медленных шага от своего кувшина, который теперь катался во времени то назад, то вперёд, ибо тотчас ощутил боль от первого удара, настигшую его, точно удар молота, и почувствовал, что споткнулся, а затем последовал ещё один удар, даже сильней первого. Капуа повернулся, словно дрозд, насаженный на вертел, и неуклюже упал на колени. Когда он попытался уползти, то почувствовал, что по нему бьют чем-то, словно по барабану, а язык отказывается ему повиноваться, словно он забывает, как соединять… слова… которые почемутонаваливаются однона-другое ив нихсо всеммало смы ела а потомза пахгу аявывернулся и томмипошелизаговорил сомною издаиздаиздалекаи гдегдегдетомми! томми! холодихолоди и…
На бегу я обернулся посмотреть, что делается у меня за спиной, и увидел, как черномазые дубасят моего приятеля палками, явно пытаясь перебить кости и на руках, и на ногах. Я увидел, как он медленно поднял руку в каком-то странном и вялом жесте. Может, он прощался с кем-то или с чем-нибудь. Они лупили его по голове изо всех сил. Укрывшись в зарослях, я наблюдал за происходящим и видел, что через какое-то время они бросили его умирать.
Когда на другое утро я с немалой опаскою возвратился к саням, то обнаружил их в целости и сохранности, в отличие от трупа Капуа Смерти, из разорванного живота коего торчали длинные кишки и прочая требуха, тёмная от запёкшейся крови, — следы начатого минувшей ночью пиршества сумчатых дьяволов или сумчатых волков.
Рядом с головою мертвеца лежал сосуд, предназначавшийся не то для выпивки, не то для духа, а теперь разбитый и пустой, и побелевшие глаза всё ещё смотрели на него. Среди черепков валялись приметы былого, кусочки прошлого: половинка кольца из тёмно-красного камня, несколько гладких морских камешков и выцветшие клочки водорослей, а также три морские раковинки — литторины, маленькой мидии и морского гребешка, в последнем случае даже не раковина, а обломок. Он стал «хулиганским супом», лишённым привкуса полыни. Птичьей кровью в отсутствие тела, которое можно вымазать ею, чтобы оно воспарило. Он стал историей.
Поплевав на бедные руки свои, не привыкшие держать ничего, кроме кисти, я принялся гнилыми сучьями, которые то и дело ломались, рыть могилу в сухом гравии, лежавшем под слоем дёрна. Спустя какое-то время я настолько выдохся, что не мог продолжать, хотя выкопал всего лишь мелкую ямку. Я засунул в неё тело Капуа Смерти и зашагал прочь не оборачиваясь, затем перешёл на бег и захотел, возжелал всем сердцем, чтобы жизнь была иной.
Прошло время.
Начался бред.